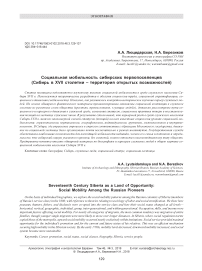Социальная мобильность сибирских первопоселенцев (Сибирь в XVII столетии - территория открытых возможностей)
Автор: Люцидарская А.А., Березиков Н.А.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена недостаточно изученному явлению социальной мобильности в среде служилого населения Сибири XVII в. Используются теоретические разработки в области социологии труда, социальной стратификации, социального движения (мобильности). Показано, как развивалось конкретно-историческое изучение карьер служилых людей. На основе обширного фактического материала проанализированы механизмы социальной кооптации в служилое сословие из различных слоев общества (крестьян, промысловиков, «гулящих людей»), детально рассмотрены пути социального и карьерного движения в служилой среде, изменения статусов, социальные практики потери и восстановления позиций на лестнице служилых чинов. В результате сделан вывод, что карьерный рост в среде служилого населения Сибири XVII в. являлся закономерной сменой статусов (позиций) на всех известных социологии уровнях социальной мобильности: горизонтальном, вертикальном, географическом, индивидуальном, групповом, межпоколенном и внутрипоколенном. В Сибири, где управление строилось в строгом соответствии с образцами Московского государства, движение по социальной лестнице было организовано почти исключительно в рамках институтов. Государственная служба обеспечивала наибольшие возможности для восходящей мобильности индивида, членов его семьи и потомков и определила то, что сибирский социум указанного времени, без сомнений, можно отнести к высокоподвижному типу обществ. Предпринята попытка вписать обширный материал по биографиям и карьерам служилых людей в общую картину социальной мобильности населения Сибири XVII в.
Биография, сибирь, служилые люди, социальный статус, социальная лестница
Короткий адрес: https://sciup.org/145145882
IDR: 145145882 | УДК: 394+316.444
Текст научной статьи Социальная мобильность сибирских первопоселенцев (Сибирь в XVII столетии - территория открытых возможностей)
Уже в XVI столетии территория Сибири стала привлекать переселенцев-пионеров из разных регионов европейской части страны. Край был чрезвычайно богат ресурсами: земельными, водными, пушными и пр. Кроме того, пространство Сибири позволяло перемещаться на большие расстояния в пределах своего государства. Это предоставляло возможность карьерного роста на «горизонтальном» уровне.
Историки Сибири давно обратили внимание на проблему продвижения сибирских служилых людей по социальной лестнице в целом и по должностным ступеням, в частности. К сегодняшнему дню накоплен значительный фактический материал о десятках сибирских служилых людей XVII в. – представителей высшего (воеводы, сыны боярские, дворяне) и среднего (атаманы, сотники, пятидесятники) командного состава, включающий происхождение, службу, возвышение или разжалование. Однако целью этих работ было по преимуществу восстановление биографии того или иного деятеля или его семьи. Так, например, Г.Ф. Миллер на страницах своей «Истории Сибири» представил калейдоскоп биографий служилых людей: Ильи Ермолина [Миллер, 2003, с. 52–53, 153, 162, 171, 195], семейства Колмогоровых [Там же, с. 195–197, 217–218, 236, 250–251], атамана Дмитрия Копылова [Там же, с. 50, 76–81, 205–206, 223–239], пятидесятника Василия Москвитина [Миллер, 2005, с. 47, 169–183, 186–190] и др. К.Б. Газенвинкель предпринял даже попытку составления справочно-биографического словаря сибирских деятелей XVI–XVII вв. [1893–1895], Н.Н. Оглоблин восстановил хронологию жизни и деятельности Владимира Атласова, Семена Дежнева, Демьяна Многогрешного [1890, 1892]. С.В. Бахрушин внес много сведений в жизнеописания сибирских воевод [1955a, б].
В советской и постсоветской историографии, несмотря на радикальные методологические повороты, подход к сибирским служилым остался по сути прежним. На карьеры служилых людей, изменения их социального статуса продолжали смотреть через окуляр биографического метода. В то время как наработки социологии труда, даже в марксистской ее интерпретации, оставались за рамками конкретно-исторических исследований. Можно привести в качестве примеров фундированные работы В.А. Самойлова, Н.И. Никитина, Г.А. Леонтьевой, Д.Я. Резу-на, Е.В. Вершинина, А.С. Зуева, И.Р. Соколовского, П.Н. Бараховича и др., посвященные восстановлению биографических данных служилых людей [Самойлов, 1945; Никитин, 1999a, б; Леонтьева, 1997; Резун, 1993, 2003; Вершинин, 1998; Зуев, 2000; Соколовский, 1999, 2006; Барахович, 2015a, б].
Методология
Сложившаяся ситуация в историографии заставляет обратиться к обсуждению социального продвижения в рядах служилого сословия в Сибири XVII в., рассмотрев богатый фактический материал с помощью социологических теорий и концепций социальной мобильности. Основной вопрос заключался в том, насколько формула «территория открытых возможностей» соответствовала сибирской действительности и где находился сибирский социум на шкале «социальной подвижности». В сибиреведении данная исследовательская проблема ранее не акцентировалась. В теоретической социологии эти вопросы на комплексном уровне были рассмотрены П. Сорокиным в 1920-х гг. [2005]. Его понятийный аппарат и трактовки стали общепризнанными и получили развитие в дальнейших исследованиях социологов Д.В. Гласса [Glass, 1967], М. де Серто [2010], Н. Лумана [2005], Дж. Урри [2012]. Среди отечественных работ последнего времени отметим обобщающую монографию О.И. Шка-ратана [2012].
Системообразующим утверждением, на котором строится наше исследование, является представление карьерного роста в среде служилого населения Сибири XVII в. как закономерной смены статуса (позиции) на всех уровнях социальной мобильности: горизонтальном, вертикальном, географическом, индивидуальном, групповом, межпоколенном и внутрипоко-ленном. Мобильность в данном случае определяется как универсальный феномен, присущий высокоорганизованным обществам и в более широком контексте означающий смену позиции в социальной иерархии. Движение по социальной лестнице организовано, как правило, в рамках институтов (социальных лифтов в терминологии П. Сорокина [2005, с. 87]). Одним из таких главных институтов в Сибири XVII в. была государева служба. Именно она обеспечивала наибольшие возможности для восходящей мобильности индивида, членов его семьи и потомков, определяла степень подвижно сти сибирского социума. Наряду с закономерностями индивидуального продвижения, мы рассматриваем также параметры мобильности служилых людей в целом как группы в составе сибирского общества в ее отношениях с другими социальными слоями.
Стоит специально оговорить, что мы исследуем биографии наиболее многочисленной группы служилого населения – преимущественно среднего звена. Не затрагиваются процессы социальной мобильности в среде воевод и бюрократической администрации. Кроме того, за скобками остаются пленные шляхтичи из Речи Посполитой, которые, как правило, в Сибири назначались на высшие управленческие должности.
Все это позволяет вписать отдельные факты карьерного движения в общую картину социальной мобильности служилого населения Сибири XVII в.
Роль государства в социальной мобильности
На первых порах освоения зауральской территории существовал большой разброс в определении социального статуса переселенцев. По сути, только переведенные из европейской части страны служилые люди сразу же по прибытии в Сибирь четко вписывались в структуру общественной жизни. Материальное обеспечение и положение в сибирском сообществе могла гарантировать только государственная служба. Поэтому мужское дееспособное население стремилось попасть на государеву службу. По решению царского правительства на зауральской территории формировались гарнизоны и основывались крепости-остроги, ставшие впоследствии значительными населенными пунктами, вокруг которых образовывалась сельская округа. Гарнизоны состояли из пеших и конных казаков, а также детей боярских, основных помощников воеводской администрации.
Люди часто шли в Сибирь, объясняя это формулой «от хлебного недороду и церковного расколу». Такие причины существовали наряду с иными, однако лишь наиболее активные, пассионарные личности могли порвать с традиционно налаженным бытом и отправиться в неведомый край. Предприимчивым и умелым переселенцам на начальном этапе колонизационного процесса всегда находилось место в новых условиях. Далеко не последнюю роль играла способность каждого переселенца к адаптации – социальной, экологической, хозяйственной и, наконец, языковой, поскольку жить приходилось в окружении автохтонных этносов.
Кроме того, на протяжении нескольких веков Сибирь была местом ссылки, причем ареалы размещения опальных людей постепенно сдвигались на северо-восток края. Служилое сословие пополнялось путем как многочисленных переводов из разных регионов государства, так и привлечения представителей иных социальных групп, в т.ч. аборигенного населения. В последнем случае это был обоюдно выгодный процесс. Привлекая на государеву службу коренное население, власти компенсировали нехватку людских ресурсов, смягчали этнические конфликты, а новокрещеные аборигены получали льготы и материальную поддержку. История Сибири XVI–XVII вв. знает немало случаев, когда местные аборигены после обязательного крещения делали «карьеру» [Бахрушин, 1955б; Люцидарская, 2011, 2014, 2015]. Как показано в работе М. де Серто, разнообразие в «обществе, со- стоящем из сообществ, зачастую влечет за собой разные формы мобильности» [2010, с. 161–162]. Однако это тема отдельных исследований и отношение властей к коренному населению Сибири в данной работе не рассматривается.
Помимо служилых людей, передвижение которых контролировалось правительственными структурами, в Сибирь устремлялись крестьяне, а также «промышленные люди», ориентированные на добычу ценной пушнины, ремесленники и др. Особую категорию населения составляли «гулящие люди», беспрепятственно передвигавшиеся и выбиравшие занятия по собственному усмотрению. Таким образом, они на какое-то время выпадали из орбиты стационарных социальных отношений, хотя нередко со временем вновь оказывались в их власти. Прежнее общественное положение «гулящих людей» могло быть весьма различным, однако питательной средой, за счет которой формировалась эта группа населения, были крестьянские общины и посады Русского Севера [Преображенский, 1972, с. 100–101]. Существует мнение, что «по документальной истории “гулящие люди” бродят как тени и предстают чуть ли не досадной помехой действиям чиновников» [Головнев, 2015, с. 500]. Это в целом справедливо для истории Сибири XVII в. Однако на начальном этапе колонизации «гулящими людьми» нередко с успехом «затыкали бреши» при различных ситуациях, возникавших из-за явной нехватки людских ресурсов. Это вполне согласуется с теоретическими выкладками Д. Гласса, который полагал, что социальное равновесие имеет подвижный характер в развивающихся обществах и «чем сильнее циркуляция, тем строение населения эластичнее, тем целесообразнее отбор индивидов для каждого слоя» [Glass, 1967, p. 18–19].
В новых сибирских условиях переселенцы могли менять свои жизненные установки под действием обстоятельств. Нередко «гулящие люди» приобретали навыки, ставшие впоследствии их «специальностью». В 1604 г. из Москвы последовал наказ сибирским воеводам подобрать «плотников на Верхотурье из гулящих людей добрых, чтоб плотничное всякое дело знали и судов делать были горазды» [Верхотурские грамоты…, 1982, с. 149]. Постройка судов требовала определенных знаний, и вместе с «мастерами своего дела», которых в Сибири явно было немного, остальные «гулящие плотники» так или иначе проходили в процессе работы обучение специальным навыкам. В дальнейшем это позволило многим умелым мастерам сменить статус «гулящего» на «судового плотника», что сулило жалованье и больший вес в обществе [Там же, с. 150]. Возможности приобретения нового статуса расширялись в связи с постройкой и развитием новых городов. В 1604 г. был основан Томск, и в 1605 г. поступил царский наказ «прибрать» на Вер- хотурье «гулящих, охочих людей в новой Томский город в служилые люди и на пашню пятьдесят человек... нашего жалованья денег и хлеб дадут...» [Там же, с. 167–168]. В 1607 г. в связи с нехваткой стрельцов для комплектации караулов в Сибирь была послана царская грамота с требованием набрать недостающее количе ство из числа «гулящих людей», «...чтоб были собою добры, и стрелять горазды, и не воры». При этом казакам полагалось взять новых стрельцов на поруки [Там же, с. 195–196]. Чаще всего «гулящие люди» начинали свою трудовую деятельность в Сибири в качестве наемных работников при транспортировке различных грузов. В дальнейшем их жизненный путь совершал самые невероятные зигзаги. Некоторые оседали в городах, обрастали недвижимостью, семьями и т.п.
Пример изменения социального положения от низшей ступени до более высокой можно отыскать в «сказке» томского сына боярского Дмитрия Лито-сова. Его дед, каргаполец, появился в Томске в качестве «гулящего человека», затем ему удалось поверстаться в казаки и за заслуги со временем получить чин сына боярского. В дальнейшем в этом высшем служилом чине оставались его сын и внук. Нет никаких сведений, кем на самом деле был в Каргополье дед Литосова. Под маской «гулящего человека» мог скрываться крестьянин, ремесленник, наемный работник, сбежавший должник, разбойник и т.п. Однако не вызывает сомнений, что, оставаясь в Каргополье, Литосов, скорее всего, не достиг бы высокого служилого чина и не обеспечил бы достойную жизнь своим наследникам [Томск…, 2005, с. 44]. Подобным образом сложилась жизнь кузнецкого конного казака Авдея Титова. Его отец проживал на р. Сысоле бобылем, пришел в Сибирь «гулящим человеком», обосновался в Кузнецке, поверставшись в пешие казаки, и, прослужив 20 лет, умер. Его сын поверстался в конные казаки на место своего тестя [Каменецкий, 2005, с. 296]. Мобильность служилых людей различной этнической принадлежности согласуется с выводами П.А. Сорокина, который утверждал, что определяющее значение имеет сила естественного отбора, когда «максимально профессиональные и ориентированные на деятельности индивиды закрепляются в определенных социальных слоях, а не обладающие этими характеристиками “вымываются”» [2005, с. 349].
Войдя тем или иным способом в состав служилого сословия, казаки, как правило, стремились повысить свой статус. Пешие не упускали случая попасть в ряды конных казаков, а те, в свою очередь, чаяли отличиться и занять место среди сынов боярских. Подобные передвижения сулили повышение значимости в обществе и несомненную материальную выгоду, как увеличение оклада, так и появление новых возможностей в предпринимательской деятельности.
Например, Захарей Матвеев приехал в Сибирь с женой и детьми из Устюжского уезда, будучи «посадского отца сын». В Кузнецке он был поверстан в конные казаки. Затем Захарея взяли в съезжую избу подьячим в хлебный стол, где он про служил ок. 30 лет, после чего «за старостью и увечьем» был поверстан в дети боярские. Впоследствии его сын Никита нашел свое ме сто в рядах конных казаков [Каменецкий, 2005, с. 319].
В Москву на имя царя не прекращался поток челобитных из разных уголков Сибири. Значительная их часть содержала просьбы о повышении жалованья либо переводе в более высокий чин. В челобитных обычно перечислялись заслуги на военном поприще, указывался срок службы и т.п. Как правило, эти просьбы удовлетворялись. Так, в 1623 г. была получена царская грамота о назначении тюменского конного казака Гаврилы Иванова атаманом конных казаков. Этому предшествовала челобитная на имя царя, в которой перечислялись все заслуги Гаврилы Иванова за долгую службу в Сибири (42 года). К тому времени в Тюмени освободилась должность атамана, таким образом, просьба была удовлетворена [Миллер, 2003, с. 446–447].
Иногда челобитные заканчивались любопытной попыткой некоего «шантажа». Так, конный казак Яким Захарьев, считая себя обойденным в прибавке жалованья, писал царю, что если просьба не будет удовлетворена, то он с былым рвением служить не станет. Яким просил пожаловать его за службу и пролитую кровь «царским жалованьем, как тебе милосердному го сударю бог известит, чтоб я, холоп, перед своими товарыщи в конец не погиб и твоей бы другой службе в перед не отстал» [Бутанаев, Абды-калыков, 1995, с. 36]. Подобные выражения встречаются в ряде других челобитных. В челобитной царю Михаилу Федоровичу от служилых людей Енисейского острога по поводу выдачи жалованья (конец 1620-х гг.) после перечисления заслуг следует: «Пожалуй нас, холопей своих... чтоб [нам] холопем твоим будучи в Енисейском остроге твоей государевой службы не отбыть» [Сборник…, 1960, с. 15–16]. В 1645 г. тюменский воевода князь Г.П. Борятинский обратился к царю с просьбой заслушать доклад о его службе в Сибири и пожаловать достойное вознаграждение. Челобитная заканчивалась словами: «Вели, государь, по той выписке доложить собя, государя, чтобы я, холоп твой, на старости в конец не погибнуть и перед своею братею позорен не был и твою бы государеву службу с радостью служил» [Прибыльные дела…, 2000, с. 151]. Челобитные, связанные с продвижением по карьерной лестнице, демонстрируют применение социокультурных механизмов адаптации и показывают, насколько она значима в плане мобильности населения.
В то же время понятие «социальный статус» рассматривается современными социологами в контексте процесса создания семейных групп [Берто, Берто-Вьям, 1992, с. 106]. Семья способствовала эволюции социальной мобильности своих членов или передавала им различного рода элементы, позволявшие индивиду изменять или сохранять свой социальный статус. Прекрасным примером является семейство Гречаниновых (Грек, Гречанин, Греченинов, Мануйлов), которое в Томске стояло некоторым особняком. На сибирской земле Гречаниновы сумели создать свой родовой клан, гарантирующий им устойчивое положение в обществе на протяжении длительного времени. У Мануйлы Грека было, по сведениям документов, не менее девяти сыновей. Все без исключения попали в ряды высших служилых чинов, детей боярских. Даже внуки Мануйлы занимали те или иные административные должности. Все Гречаниновы были не просто грамотными, но достаточно образованными для своего времени. Выходит, что Ма-нуйла Константинович Гречанин, попав в Сибирь, сумел выучить сыновей (вполне вероятно, что отец самостоятельно обучал детей). Основатель рода служил в Москве в греческой роте, а в 1640-х гг. был переведен в Томск в чин сына боярского. Один из его сыновей в своей «сказке» упоминает о том, что Ма-нуйла был сослан. Скорее всего, так и было, но этот факт предпочитали умалчивать. Степан и Калина Гречаниновы состояли на дипломатической службе. Степан не единожды бывал с посольской миссией у монгольского правителя Алтын-хана, а Калина проявлял свои способности в Алтайском регионе. Иван Гречанин участвовал в военных операциях, возглавляя сводный отряд из томских и кузнецких казаков. Он же являлся автором отписок в Сибирский приказ о положении дел в Ачинском и Мелесском острогах. Федор Мануйлов Гречанин в конце XVII в. осуществлял разведку серебряной руды на р. Кыштак. Находился на административной должности и Михайла Гречанин. Петр Яковлев Гречанин (правнук Мануй-лы) в 20-х гг. XVIII в. провел в Сосновском стане Томского уезда первую подушную перепись. Описание деятельности Гречаниновых можно долго продолжать. Проживали они в самом Томске и имели угодья в уезде. Помимо административной и политической деятельности Гречаниновы не чурались и занятий, присущих всем служилым людям того времени (приторговывали, участвовали в сельскохозяйственном освоении земель и т.п.). Это было очень многочисленное и разветвленное семейство, несомненно оставившее след в истории колонизации Сибири [Люцидар-ская, 1992, с. 25, 59].
Сравнение социального статуса родителей и их детей позволяет определить межпоколенную, или интергенерационную, мобильность, которая является важ- ным фактором статусных изменений и выражением активности индивидов. Позитивная трансформация социального статуса детей, по сравнению с родителями, – один из показателей динамично развивающегося социума [Луман, 2005, c. 158–160].
Пространство Сибири и социальная мобильность
Устойчивые семейные кланы гарантировали стабильное существование колонистов в сибирских условиях. Обосновавшись на новом месте, переселенцы старались привлечь в Сибирь родственников из европейской части страны. В архивах сохранились документы о подобных перемещениях. Так, кузнецкий конный казак Терентий Семенов просил позволить перевезти к нему из Устюга жену с сыном, брата с женой и детьми и невестку, енисейский казачий десятник Федор Елизаров Казанец – племянника (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Л. 175, 213) и т.п. Наличие родственников позволяло расширять хозяйственную деятельность, основу жизнеобеспечения.
Весьма интересна в плане изменений социального статуса история Парфена Степнова, его детей и внуков. Доступные нам источники не позволяют выяснить, каким образом П. Степнов оказался в Сибири, в частности в Томске. В документах середины XVII в. он значится как служилый человек, а в одном источнике назван пешим казаком. В этот период П. Степнов выделялся из массы служилого люда постоянными торговыми операциями с пушниной. Но не только меха входили в сферу его коммерческих интересов. Суммы, которыми оперировал П. Степнов, резко отличаются от размеров ординарных сделок томского рынка. Так, в 1648/1649 г. он продал исключительно пушнины на 44 руб., а другая сделка, оформленная как «местный товар» (лосины, хмель, кожи, сало, жир, хвосты конские и др.), составила 500 руб. Это очень значительные суммы для того времени. В последующие годы таможенные документы постоянно фиксировали пребывание П. Степного на томском рынке. В 1657 г. он продал пушнины на 26 руб. и купил у коренных жителей Сибири 29 голов скота. Десятью годами позже П. Степнов предпринял поездку в Енисейск с соболями купца гостиной сотни Ф. Кислова (на сумму 100 руб.). В то же время он послал известному енисейскому солевару А. Тихонову хмель, а тот отправил с ним в Томск 700 пудов соли. При этом из Енисейска Степнов вез и собственный товар на сумму 177 руб. По-видимому, подобные операции с товарами совершались ежегодно. К сожалению, нами не найдены документально подтвержденные сведения о сельскохозяйственной деятельности Парфена Степного, известно только, что в середине
XVII в. местные власти брали у него взаймы более 33 четей ржи, предназначенных на жалованье служилым людям (Там же. Стб. 470. Л. 30). Однако зерно П. Степнов мог скупать и у местного населения.
Сыновья Парфена были сразу же, без перехода из чина в чин, поверстаны в дети боярские и сочетали службу с предпринимательством и хозяйствованием. Андрей Степнов в 1706 г. являлся таможенным головою (Там же. Оп. 1. Кн. 1452. Л. 4). Судя по документам, он бывал с поручениями в Москве. Андрей имел большую усадьбу в Томске и значительные угодья в сельской округе, владел двумя мельницами, а также организовал ловлю рыбы на Томи. В 1707 г., будучи уже томским таможенным целовальником, он скупал у телеутов ценные меха (горностаи) на нужды казны. Думается, это была чрезвычайно выгодная должность [Уманский, 1980, с. 273]. Таким образом, Парфен Степнов создал в Сибири клан из ближайших родственников, которые весьма преуспевали в хозяйственной и коммерческой деятельности на протяжении длительного времени. К началу XIX в. Степновы числились купцами 3-й гильдии, торговавшими помимо российских немецкими и китайскими товарами [Краткая энциклопедия…, 1997, с. 88].
Судьбы Гречаниновых и Степновых, на наш взгляд, не только являются отличным примером «межпоколенной» мобильности, но и демонстрируют справедливость теории французского социолога П. Бурдье о существовании в обществе разных капиталов (не только денежного, но и социального, культурного и др.). Поскольку их развитые формы определяют социальную включенность, то общества с высоким уровнем социального капитала характеризуются «плотными общественными отношениями, совокупностью развитых взаимных обязательств, общего взаимопонимания, высоким уровнем доверия к ближнему, межгрупповыми клубными коллективами и связями, преодолевающими принятые социальные границы» [Бурдье, 2002, с. 66].
Социальная мобильность в Сибири была те сно связана с пространственным перемещением населения. С одной стороны, это тормозило обустройство семейного и хозяйственного быта служилых людей, с другой – способствовало быстрейшей адаптации к сибирским условиям и, в конечном счете, расширению кругозора. Представление о Сибири не ограничивалось определенным местом, регионом и т.п. По источникам XVII в. достаточно хорошо прослеживается жизненный путь поколений сибирских казаков. В своей «сказке» десятник кузнецких конных казаков Алексей Кирилов описывает семейную историю так: «Прадед мой был новгородец посадник а из Новгорода от гнева бежал сошед на Великий Устюг а с Устюга в Пермь Великую а как шел с Волги атаман Ермак Тимофеевич и деда моего взял с собой в Сибирь во- жем... и служил дед мой на Верхотурье и в Туринском и на Тюмени в Тобольском двенадцать лет в конной казачьей службе а в Томском служил двадцать лет и по челобитью томских служилых людей и всяких чинов людей за малолюдство взят в священство а отец мой Алешки Кирило Меркурьев работает ему великому государю со 149 году в таможне в приказе в Томском и Нарыме, и в Кузнецком, а я Алешка верстан в 188 году на выбылое место...» (см.: [Каменецкий, 2005, с. 289]). Приведенный отрывок из Кузнецкой разборной книги 1681 г. содержит не только интересный материал по перемене мест обитания сибирских служилых людей, но и любопытный факт разительного изменения общественного положения служилого. Казак, прослужив 32 года, стал богоявленским дьячком. Несомненно, он знал грамоту и, видимо, пользовался поддержкой населения города. С этой поры он стал именоваться Меркурьевым, т.к. священником Богоявленской церкви был Меркурий Леонтьев. Таким образом, казак поменял не только общественное положение, но и фамилию в современном понимании термина [Покровский, 1989, с. 379]. Это далеко не единичный случай изменения в связи с жизненными обстоятельствами имен и фамилий в XVII в. Подобные явления нередко затрудняют работу исследователя с источниками.
Пространство Сибири давало возможность перемещаться на большие расстояния в пределах своего государства (карьерный рост на «горизонтальном» уровне). Во многом это нивелировало отмеченный в историографии процесс «замыкания» служилого сословия к концу XVII в., когда возможности мобильности ограничивались наличием большого числа «сыновей, братьев и племянников не в службе». Причем тенденция наследования службы со временем только усиливалась. К началу XVIII в. случайному человеку занять место в рядах государевых людей становилось все сложнее [Люцидарская, 2016, с. 516]. Сказывались и уменьшение количества гарнизонов, и изменение политической обстановки в Сибири, и другие моменты, связанные с общим сокращением числа служилых казаков на сибирской территории. Подробно об этом процессе написал С.В. Бахрушин в очерке о красноярском гарнизоне [1959, с. 131–134].
Кроме того, наличие огромных неосвоенных пространств на востоке способствовало возврату утерянной по субъективным или объективным причинам государевой службы. Это можно назвать «волнообразной» (нисходящей–восходящей) мобильностью, которую специально отмечает Дж. Урри [2012, с. 22]. Проштрафившись в одном месте и в ряде случаев получив соответствующее наказание, человек переводился в иную, как правило, северо-восточную местность. На новом месте он оставался в том же социальном статусе или, получив понижение, со временем снова его обретал, иногда даже добиваясь повышения. Вся история Сибири пестрит такими примерами. Даже наказанным за участие в заговорах, побегах и убийствах служилым порой удавалось полно стью восстановить статус и положение своей семьи. В этом плане интересна история семейства Черниговских, родоначальником которой был Никифор Романович. В 1632 г. он был взят в плен в ходе русско-польской войны 1632–1634 гг. По ее окончании Н. Черниговский пожелал остаться в России и поступить на царскую службу. В 1635 г. его поверстали в стрельцы Тульского гарнизона. Однако летом следующего года Никифор принял участие в заговоре «литвы»: оглушил караульщиков, забрал гарнизонное оружие и припасы и хотел сбежать за границу. Побег не удался, его настигли и в качестве наказания отправили в Сибирь. Н. Черниговский не только потерял свой чин и статус, но и остался с женой без верхней одежды и накоплений; в своей челобитной он писал: «А мы, холо-пи твои, людишки бедные, и наги, и босы, и доехать до Сибири не в чем, с стужи на дороге помереть нужною морозною смертью... Вели, государь, нам дать на одеженко, как тебе, милосердному государю, бог известит» (см.: [Красноштанов, 2008, с. 23]). Как правило, в прошении краски сгущены. Прибыв в Енисейск в сентябре 1637 г., Никифор подал челобитную, и его восстановили на государевой службе «с енисейскими казаки вряд» в чине привилегированного по сибирским меркам конного казака. В енисейском гарнизоне Н. Черниговский зарекомендовал себя как крепкий администратор и уже через семь–десять лет стал приказчиком казенных деревень, солеварен и прочего государственного хозяйства в большом Илимском крае. В начале 1650-х гг. он упоминался как казачий десятник, в 1655 г. – как пятидесятник. К этому времени подросли его сыновья, родившиеся в Сибири, и тоже заняли должности казаков в Илимском воеводстве. Однако в 1665 г. неуемный Н. Черниговский принял участие в заговоре служилых людей и крестьян против илимского воеводы Л.А. Обухова, которого в результате убили. Свидетели обвинили младшего сына Никифора в причастности к убийству, а его самого отнесли к числу организаторов. Вместе с другими заговорщиками Черниговские убежали на Амур. Они лишились всех статусов, заработанных за десятилетия службы, и над ними нависла угроза казни за участие в убийстве высшего должностного лица. На Амуре беглые казаки построили Албазин-ский острог, надеясь службой и сбором ясака загладить свою вину перед государем. И фактически им это удалось: спустя десять лет после побега Н. Черниговского уже официально назначили приказчиком Албазинского острога с годовым жалованием казачьего атамана. Его сыновья также избежали смертной казни, но были разжалованы из конной службы в пе- шие казаки (старшего, Федора, лишили чина де сят-ника). Никифор вскоре после этих событий умер, а его сыновьям удалось начать карьеру заново – в Иркутске и пограничных острожках Иркутского уезда. Младший сын Анисим уже в 1684 г. стал десятником, Федора в начале 1690-х гг. восстановили в конной службе, и он получил сначала чин казачьего пятидесятника, а потом выдвинулся в сыны боярские. Внуки Н. Черниговского в течение 1680–1700-х гг. занимали посты казачьих десятников, пятидесятников и атаманов (подробнее см.: [Красноштанов, 2008]). Таким образом, даже после полного разжалования служилым людям удавалось восстановить свой статус путем перехода на службу в восточные отдаленные и малоосвоенные районы. В XVII в. этой возможностью многие пользовались.
Неосвоенное сибирское пространство располагало к реализации стремлений служилого люда. По обоснованному мнению А.В. Головнева, магистральная русская культура охватывала огромную территорию за счет экосоциальной адаптивности, многообразия и подвижности. Адаптивность включала способность освоения различных экониш, приспособление к быстрым социальным переменам. Это и являлось ключевым качеством и достоинством русской культуры [Головнев, 2009, с. 424]. Государство поддерживало социальную мобильность, поскольку было заинтересовано в быстрейшем освоении территории. А обширное пространство предоставляло такую возможность.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование с определенной долей условности представляет переселенческое сообщество в Сибири XVII в. как высокоподвижный организм. Мобильность в среде служилого населения была обеспечена рядом объективных и субъективных факторов. Закрытое сословное государство вынуждено было приоткрыть окно возможностей в Сибирском регионе в первое столетие его активного заселения.
Рассмотренные в статье разнообразные случаи социальной мобильности были связаны с общими процессами этнокультурной, социально-политической и экономической адаптации в условиях первоначального освоения территории. К началу XVIII в. подвижность служилого сообщества уменьшилась, произошли деинтенсификация во сходящих потоков, постепенное увеличение нисходящего и самовоспро-изводства группы. Она стала относительно закрытой для новых членов, выходцам из других слоев все сложнее было попасть в этот. Основная масса социальных перемещений происходила по горизонтали социальной структуры.
К важным результатам экономической и культурной деятельности сибирского социума в XVII в. относится формирование подвижной группы служилых людей. Эта субкультурная группа обладала чертами профессиональных военно-административных объединений с высоким показателем социальной и территориальной мобильности, что добавляло развивающемуся сибирскому сообществу полезную адаптивную характеристику. Такой вариант адаптивного поведения являлся регулятором социальных, этнокультурных и этнополитических процессов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).
Список литературы Социальная мобильность сибирских первопоселенцев (Сибирь в XVII столетии - территория открытых возможностей)
- Барахович П.Н. Службы красноярского атамана Милослава Кольцова//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2015a. -Т. 14. -Вып. 1: История. -С. 47-57.
- Барахович П.Н. Документы о «ленской службе» енисейского атамана И.А. Галкина в 1633-1634 гг.//История военного дела: исследования и источники. -2015б. -Т. VII. -С. 76-95.
- Бахрушин С.В. Воеводы Тобольского разряда в XVII в.//Бахрушин С.В. Научные труды. -М.: Изд-во АН СССР, 1955a. -Т. 3, ч. 1. -С. 252-296.
- Бахрушин С.В. Енисейские киргизы в XVII в.//Бахрушин С.В. Научные труды. -М.: Изд-во АН СССР, 1955б. -Т. 3, ч. 2. -С. 176-224.
- Бахрушин С.В. Очерки по истории Красноярского уезда в XVII в.//Бахрушин С.В. Научные труды. -М.: Изд-во АН СССР, 1959. -Т. 4. -С. 6-192.