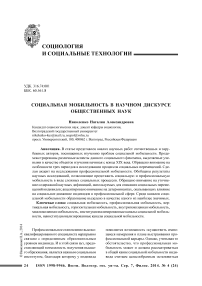Социальная мобильность в научном дискурсе общественных наук
Автор: Николенко Наталия Александровна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 4 (24), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ научных работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных изучению проблем социальной мобильности. Продемонстрированы различные аспекты данного социального феномена, выделяемые учеными в качестве объектов изучения начиная с конца ХIХ века. Обращено внимание на особенности трех периодов в исследовании процессов социальных перемещений. Сделан акцент на исследовании профессиональной мобильности. Обобщены результаты научных исследований, позволяющие представить социальную и профессиональную мобильность в виде сложных социальных процессов. Обращено внимание на уточнение содержаний научных дефиниций, используемых для описания социальных перемещений индивидов; акцентировано внимание на детерминантах, оказывающих влияние на социальное движение индивидов в профессиональной сфере. Среди каналов социальной мобильности образование выделено в качестве одного из наиболее значимых.
Социальная мобильность, профессиональная мобильность, вертикальная мобильность, горизонтальная мобильность, внутрипоколенная мобильность, межпоколенная мобильность, институционализированные каналы социальной мобильности, неинституционализированные каналы социальной мобильности
Короткий адрес: https://sciup.org/14974953
IDR: 14974953 | УДК: 316.74:001
Текст научной статьи Социальная мобильность в научном дискурсе общественных наук
Профессиональное становление высококвалифицированного специалиста неразрывно связано с определенным образовательным уровнем индивида. И в этой связи вуз, предоставляющий возможность получения высшего образования, является важным социальным институтом, благодаря которому у индивида появляется возможность осуществить имеющиеся намерения в плане выстраивания профессиональной карьеры. Однако, учитывая то обстоятельство, что профессиональная мобильность может и должна рассматриваться в общей канве социальной мобильности индивида считаем целесообразным остановиться на анализе содержания означенных в названии статьи дефиниций, опираясь на научные разработки отечественных и зарубежных авторов, занимающихся данной проблемой.
Социальные структуры большинства современных обществ характеризуются высокой степенью динамичности. При этом процессы социального перемещения индивидов в социальной структуре и их последствия как в нашей стране, так и за рубежом вызывают определенный интерес у представителей общественности и ученых. Разделяя точку зрения М.А. Булановой, исследования представителей западной социологической школы в данной области условно можно разделить на три этапа, отличающиеся друг от друга методами сбора данных, процедурами измерения и выделением для анализа в качестве основополагающих компонентов определенных аспектов в процессах социальной мобильности. На первом этапе исследования носили «историко-социологический характер с использованием относительно простых статистических методов»; на втором этапе в качестве основных критериев стали выделять образование и профессию; на третьем этапе «для исследования социальной мобильности» стали использовать «построение логлинейной модели профессионального продвижения» [2, с. 137]. При этом необходимо отметить, что на всех этапах одним из самых актуальных направлений в изучении социальной мобильности были исследования, посвященные измерению экономического и профессионального статуса индивидов, межпоколенной и в нутрипоколенной мобильности. В ряду ученых первого этапа исследований социальных перемещений М.А. Буланова выделяет Р. Бендикса, Г. Зеттерберга, С.М. Липсета, Д.В. Гласса, которые занимались изучением процессов социальной мобильности в условиях индустриализации общества. Исследования этого периода отличались осуществлением попыток обосновать социальную мобильность путем анализа эмпирических данных и выработать показатели измерения социальной мобильности. Так, Д. Гласс, интересующийся величиной и направленностью процессов социальной мобильности в Великобритании конца XIX в., провел исследование среди мужчин, проживающих в Англии,
Уэльсе и Шотландии, разделив их на несколько поколенческих групп. Результаты данного исследования показали наличие связи между статусами отцов и сыновей. Оказалось, что «она наиболее заметна, когда отцы принадлежат к категории квалифицированных работников физического труда или к категории высшего административного или профессионального персонала. Д. Гласс эмпирически показал, что социальный статус в Великобритании имел тенденции передаваться «по так называемому замкнутому кругу», причем, при рекрутировании в позиции находящиеся ближе к вершине стратификационной пирамиды отвергала идеал равенства возможностей» [2, с. 138].
Второй период в исследовании процесса социальных перемещений, обозначенный М.А. Булановой, связан с возросшей ролью статистических методов в анализе данного явления. К этому периоду можно отнести имена таких ученых, как П.И. Блау, И. Блумен, Л. Гудман, О.Д. Дункан, Д. Трейман. Причем, П. Блау и О. Дункан весьма активно занимались исследованием социальной мобильности членов американского общества в профессиональной сфере. Их исследования позволили выявить, что наиболее мобильной социальной группой в США являются мужчины. А дистанция между профессиональными слоями, среди которых чаще всего осуществляется перемещение, минимальна; либо такие перемещения в большей степени тяготеют к горизонтальной мобильности. На основании полученных П. Блау и О. Дунканом результатов были выявлены:
-
1) относительно высокий уровень профессиональной мобильности в США. При этом на профессиональный карьерный рост индивида оказывают влияние социально-экономические позиции семьи и статус отца (последний «оказывает влияние на статус сына, в основном через образование»);
-
2) «городские мигранты имеют больше возможностей добиться желаемого профессионального статуса (по сравнению с «оседлыми» гражданами). Фактически и у мигрантов, и у «оседлых» выявляется прямая связь между масштабностью местности, в которой они выросли, и их профессиональными успехами;
-
3) на деловые возможности влияет число членов родительской семьи» [2, с. 138, 139].
Таким образом, вторая волна исследований социальной мобильности была ориентирована на анализ и выявление факторов, влияющих на процесс профессиональной мобильности.
Третий этап исследований связан с фамилиями таких ученых, как Дж. Голдторп, Л. Джонсон, Д.Л. Физерман, Р.М. Хаузер, Р. Эриксон, разработки которых в значительной степени помогли расширить и углубить статистические модели анализа социальной мобильности. В частности, работы Л. Джонсона, Д.Л. Фи-зермана и Р.М. Хаузера позволили установить влияние изменений в демографической ситуации в обществе на межпоколенную мобильность в профессиональной сфере. Кроме того, была предпринята попытка распределить представителей изучаемых профессиональных групп по стратам, выделив: 1. «Высший слой работников неручного труда» (управленцев и торговых работников (вне розничной торговли); специалистов (наемных и самозанятых); 2. «Низший слой неручного труда» (собственников, клеркиов, торговых работников (розничной торговли); 3. «Высший слой физического труда» (квалифицированных рабочих промышленности, строительства); 4. «Низший слой физического труда» (станочников, работников обслуживания, неквалифицированных работников; 5. «Фермеров и сельскохозяйственных работников» [2, с. 139]. В свою очередь, Дж. Голдторпом при анализе процессов, связанных с интенсивностью и характером мобильности, было установлено, что структура социальных классов Европы второй половины XX в. являлась довольно динамичной вне зависимости от положения класса в обществе. Сопоставляя результаты его обследований экономически активного населения Британии, Дж. Голдторп приходит к выводу о том, что соотношение восходящей и нисходящей мобильности среди мужчин весьма неблагоприятно. Однако, при сравнении масштабов социальной мобильности между мужчинами и женщинами, этот уровень примерно одинаков и не проявляет четкой тенденции к росту или снижению [5, с. 181–200].
В конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в. в отечественной социологии актуализируется интерес к изучению проблем труда и всем сопутствующим ему аспектам, в том числе и социальной мобильности. Основное внимание начального периода отечественных исследований социальной мобильности было уделено изучению перемещений населения из одних классов в другие, воспроизводству классовой структуры, а также процессам перемещения людей из села в город и обратно. В частности, Ю.В. Арутюнян акцентировал свое внимание на исследовании проблем села (составлении социального портрета жителей, изучении структуры дореволюционного, послереволюционного и послевоенного села и тех динамических изменений, которые происходили в этой среде, в том числе и факторов, повлиявших на изменение структуры села, среди которых выделял коллективизацию, обобществление собственности, производственно-технический уровень развития колхозов и др). Анализируя характер социальной мобильности в СССР, Ю.В. Арутюнян приходит к следующим выводам: 1) сущность социальной мобильности заключается в воспроизводстве отношений без частной собственности; 2) основными требованиями к продвижению индивида становятся его политические и профессиональные качества; 3) при отсутствии частной собственности и капитала, основополагающую роль в социальных перемещениях имеет образование; 4) мобильность направляется и управляется, в большей мере, благодаря партийному аппарату [1].
Т.И. Заславская, уделяя внимание проблемам мобильности труда, связывала ее причины и цели с удовлетворением общественного спроса на те или иные профессии и квалификации. Исследуя трансформации в сфере трудовых отношений, Т.И. Заславская выявляет влияние институциональных изменений на процессы социального перемещения индивидов: глубокие преобразования на постсоветском пространстве в базовых социальных институтах (таких, как право, экономика и политика), «интенсивный распад старых и формирование новых общественных институтов вызывает значительное усиление как трудовой, так и социальной мобильности. В связи с этим повышается роль таких индивидуальных характеристик людей, как качество базового образования, способность к овладению новы- ми знаниями, уровень квалификации, широта кругозора, богатство профессионального опыта и прочее» [7, с. 147]. Определенный вклад в изучение внутрипоколенной и межпоколенной социальной мобильности внесли также М.Х. Титм и В.Н. Шубкин. Исследования В.Н. Шубкина показали наличие неравных шансов молодежи в процессе достижения своего профессионального статуса, что детерминировано наличием существующих противоречий между системой подготовки студентов и спросом работодателей на рынке труда [21]. В свою очередь М.Ф. Черныш, рассматривая российское общество периода реформ (1985– 1993 гг.), приходит к выводу, что социальные позиции большей части населения остались в стабильном состоянии, в то время как социальная мобильность была присуща лишь некоторым слоям общества. В рамках своего исследования М.Ф. Черныш проанализировал трансформацию мировоззренческих установок у групп людей, осуществляющих восходящую и нисходящую мобильность. Он пришел к выводу, что «особенностью восходящей группы является активный поиск идентичности в рамках «средних социальных групп» – поколения, профессиональной группы и т. д. Жизненный неуспех толкает человека на приватизацию частной жизни, уединение в кругу близких и родственников, а также, отчасти, в кругу коллег» [20, с. 137]. Социальная мобильность, по мнению ученого, оказывает существенное влияние на мировоззренческие установки людей, а также на их социальное поведение, что актуализирует необходимость дальнейших исследований на данную тему.
М.Н. Реутова, проводя исследования по изучению и измерению показателей межпоколенной мобильности российской молодежи, также приходит к заключению, что базовыми каналами межпоколенной мобильности являются образование и профессия. Межпоколенная мобильность, по мнению М.Н. Реутовой, является одним из важных показателей социальных изменений в обществе, так как по своей сути является отражением социальной активности населения [15]. Таким образом, российское общество, периодически подвергающееся трансформациям и изменениям, стимулировало и продолжает стимулировать интерес отечественных ученых к изучению проблем социальной мобильности.
Что же следует понимать под социальной мобильностью индивида и социальных групп? Классическая интерпретация понятия «социальная мобильность» означает перемещение человека в социальном пространстве. А, следовательно, в качестве социальной мобильности следует рассматривать «любой переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую» [17, с. 373]. И такой переход, в первую очередь, сопровождается изменениями в социальном статусе индивида. Следовательно, осуществляя процесс социального перемещения, индивид может изменить уже существующий статус или получить дополнительный в новых для него социальных условиях. Автор данной трактовки социальной мобильности, русско-американский социолог П.А. Сорокин, в свою очередь, подразделил ее на два основных типа: вертикальную и горизонтальную. Горизонтальная мобильность осуществляется индивидом в рамках тех социальных страт или позиций, которые располагаются на одном уровне (примером горизонтальной социальной мобильности можно привести перевод служащего из одного отдела в другой в прежнем статусе, переход человека из одного спортивного клуба в другой и т. д.). Другими словами, изменения, если они напрямую не влекут за собой повышение или снижение социального статуса человека, по мнению П.А. Сорокина, следует рассматривать в рамках горизонтальной мобильности. Однако существует и другая точка зрения на определение данного типа мобильности. Так, английский социолог Э. Гидденс пишет: «В современных обществах распространена также горизонтальная мобильность, которая означает географические перемещения между селами, городами или регионами» [4, с. 112]. На наш взгляд, все же следует придерживаться точки зрения ученых, которые применяют термин «географическая мобильность» там, где данная категория становиться близкой по значению к понятию «миграция». Определенные виды миграционного движения действительно можно отнести к географической мобильности. К ним относятся все перемещения индивида не связанные с координаль-ными переменами в его статусе (главным об- разом, это эпизодическая и маятниковая миграция). Основное отличие между горизонтальной, географической мобильностью и миграцией заключается в наличии разных аспектов научного интереса. Если в первом случае исследователя интересует изменение положения индивида в социальном пространстве, то в случае с географической мобильностью интерес направлен на перемещение в физическом пространстве. Изучение миграции может соединять в себе два этих аспекта, если имеется в виду миграционное перемещение, результатом которого является смена не только географического положения, но и социального статуса человека. Но в этом случае совокупность этих перемещений выходит за рамки «географической мобильности». Если говорить о социальных изменениях в определенной стратификационной структуре, то следует отметить, что наибольшее внимание ученых (и в большей степени социологов) привлекает процесс вертикальной социальной мобильности, который вызывает более масштабные и значимые для индивида последствия. Сущность вертикальной мобильности характеризуется перемещением человека в различных слоях социального пространства, одни из которых располагаются выше или ниже других. Сам П.А. Сорокин формулировал это следующим образом: «под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются те отношения, которые возникают при перемещении индивида или социального объекта из одного социального пласта в другой» [17, с. 374]. Соответственно оно может осуществляться в восходящем и нисходящем направлении. Такая перемена индивидом своей социальной позиции осуществляется во всех сферах социального пространства: экономической, политической, социальной, профессиональной и т. д. Социальное восхождение и спуск индивида или группы в различных общественных сферах влечет за собой не только изменения в социальной структуре, но и трансформацию взглядов, установок, ориентаций людей. Американский социолог С. Липсет отмечает: «…восходящая мобильность самым непосредственным образом влияет на устойчивость определенной системы ценностей, ставящей во главу угла индивидуальность, динамизм и развитие. Согласно концепции С. Липсета, восходящая мобильность, открывая перед людьми дорогу к верхам общества, способствует деконсолидации социальных групп, превращает классовую борьбу в индивидуальное соперничество» [20, с. 135].
В качестве имманентной характеристики социальной мобильности иногда называют процесс маргинализации личности. В действительности, индивид, осуществляющий один из типов социального перемещения, может оказаться в условиях некоторой неопределенности, поскольку изменяя положение в социальной структуре, он становится на границу социальных групп, страт или слоев. Представитель Чикагской социологической школы Р. Парк первым из социологов ввел в теорию понятие маргинального человека, которого он определил как человека, живущего в разных общностях или группах, и ни к одной из которых он полностью не может себя отнести [11]. Анализируя данную идею Р. Парка, В.Г. Николаев подчеркивает, что чаще всего маргинальность рассматривается в контексте миграционных движений: «В этой связи часто отмечается, что образцом маргинального человека служит мигрант, и выводятся из поля зрения другие виды социальных перемещений, не подпадающие под миграцию, но производящие тот же пограничный тип человека: перемещения из одного социального слоя в другой, переход границ между гендерными категориями, «миграции» из одной профессии в другую и т. п. Мобильность должна учитываться как один из существенных контекстов маргинальности» [9, с. 360]. С данной точкой зрения, на наш взгляд, нельзя не согласиться, так как и процесс восхождения по социальной лестнице, и процесс снижения позиции индивида в социальном пространстве может повлечь за собой не только позитивные, но и негативные последствия. И риск возможности появления неблагоприятных последствий весьма велик. Так, значительное снижение социального статуса индивида может негативно сказаться на его положении и самоопределении в обществе, а снижение социального статуса группы, к которой принадлежит индивид, может привести к ее разрушению или к остановке развития группы. П.А. Сорокин проводит следующую аналогию такой ситуации: «в первом случае «падение» напоминает нам человека, упавшего с корабля, во втором – погружение в воду самого судна со всеми пассажирами на борту или крушение корабля» [17, с. 304]. В то же время, по уровню социальной мобильности принято судить о степени открытости того или иного общества. По мнению австрийско-британского философа и социолога К. Поппера (развивавшего идеи А. Бергсона об открытом и закрытом типах обществ), «магическое, племенное или коллективистское общество» следует «именовать закрытым обществом, а общество, в котором индивидуумы вынуждены принимать личные решения, – открытым обществом» [12, с. 217]. Племенные общества существуют в рамках действующих табу, жесткого соблюдения обычаев и традиций. По мнению К. Поппера, такие общества можно сравнить с биологическим организмом, где каждый связан с другим членом общества не столько социальными, сколько биологическими отношениями. Взаимодействия людей в открытом обществе имеют большую социальную обусловленность. Именно в таком типе общества начинает активно проявляется пространственная и социальная мобильность. В закрытых обществах, как правило, порог проходимости индивидов в более высокие слои общества ограничен, что связано с жесткой системой ограничений и «фильтров», которые могут быть закреплены институционально, либо действовать в виде неформальных общественных соглашений. «В закрытом обществе мобильность вверх ограничена не только количественно, но и качественно, поэтому индивиды, достигшие верхов, но не получающие той доли социальных благ, на которую они рассчитывали, начинают рассматривать существующий порядок как помеху к достижению своих законных целей и стремятся к радикальным изменениям» [16]. Открытые общества с либеральной, демократической структурой характеризуются довольно высоким уровнем социальных перемещений, так как базируются на принципах свободы и конкуренции. В свою очередь, американский социолог Р. Мертон писал об ограничениях социальной мобильности в обществе, о неприятии или недоступности каналов мобильности для большинства индивидов, как об одной из причин антисоциального поведения людей. Разработанная им классификация альтернатив поведения индивидов (основанная на зависимости их отношения к значимым и престижным общественным ценностям и способам достижения последних) нацелена на подтверждение выдвинутой автором идеи. Поведенческие стратегии («инновация», «ретризм» и «мятеж»), по мнению Р. Мертона, отражают недовольство и недоверие индивидов по отношению к каналам социальной мобильности, отказ от старых и поиск новых каналов восхождения, либо фрустрацию [8].
В зависимости от численного состава индивидов, осуществляющих процесс социального перемещения, следует говорить об индивидуальной, групповой или даже поколенческой мобильности. Поколенческая мобильность может разделяться на своеобразные подвиды: внутрипоколенная (или внутригенерацион-ная) и межпоколенная (или межгенерационная). Изучение межгенерационной мобильности характеризуется, прежде всего, тем, что в процессе анализа изменения социального статуса индивида основное внимание уделяется социальному статусу его родителей. Анализ процессов межгенерационной мобильности, взятой за определенный промежуток времени и в конкретном обществе, может служить основой для определения в нем степени и вида социального неравенства. Излишняя преемственность социальных слоев в принятии статусов, характерных для предшествующих поколений, может характеризовать общество как традиционное или в определенной степени закрытое. Такая ситуация, в свою очередь, свидетельствует о том, что положение индивида в социальном пространстве будет определяться его происхождением, а не способностями и усилиями самого индивида. Внутригенерационная мобильность означает переход индивида из одного социального статуса в другой на протяжении своей жизни, осуществляемый в рамках одного поколения. Такой процесс часто называют социальной карьерой, которая складывается из всех социальных позиций, занимаемых человеком на протяжении жизни. По тому, насколько социальная карьера индивида успешна, можно судить о возможностях и характере его социальных перемещений.
Помимо разнообразия видов социальной мобильности в обществе существуют соответствующие средства и способы по отбору индивидов для тех или иных социальных позиций и осуществлению перемещений в социальном пространстве. Такие средства и способы П.А. Сорокин называл «механизмами социального тестирования», которые, в свою очередь, выступают и в качестве «каналов социальной циркуляции». В качестве основных каналов социальной мобильности он рассматривал армию, церковь, школу, семью, политические и профессиональные организации [17]. Основываясь на идеях П.А. Сорокина, выделявшего в качестве первостепенных каналов социального восхождения и спуска социальные институты и организации, С.А. Просольченко также отмечает, что понятия «канал социальной мобильности» и «социальный институт» тесно связаны друг с другом. Социальные институты являются теми социальными образованиями, которые призваны упорядочивать и поддерживать общественное равновесие и развитие. Социальные институты возникают в процессе закрепления устойчивых форм отношений и взаимодействий, норм и правил поведения, а также образования комплекса устоявшихся социальных практик. Социальная мобильность невозможна вне социальной организации или института, она осуществляется в них и с их участием. «Таким образом, каналы социальной мобильности проходят через социальные практики и социальные институты, представляя собой некие более общие варианты возможностей перемещения, которые могут быть реализованы только как конкретные траектории перемещения» [14, с. 245]. Если существуют институционализированные и неинституционализированные системы практик, значит, помимо организации как канала социальной циркуляции, следует говорить еще и об институционализированных и не-институционализированных каналах социальной мобильности. К первым необходимо отнести привычные и распространенные во многих обществах социальные институты, а ко вторым, те практики, которые не являются общественно одобряемыми, до конца не интегрированы в систему какого-либо института, но представляемые как более эффективные, чем институциональные или практики, недостаточно освоенные индивидами. Избрав для примера профессиональную сферу, отметим, что «профессиональная мобильность – это перемещение индивидов или профессиональной группы в социально-профессиональной структуре общества с изменением или без изменения социального статуса» [8, с. 298]. То есть профессиональная мобильность является разновидностью социальной мобильности, которая осуществляется в определенной сфере социального пространства. В свою очередь, О.Ю. Посухова выделяет несколько неисти-туционализированных каналов социальной мобильности в профессиональной сфере. И связывает их возникновение с рядом причин социально-политического, социально-экономического, социокультурного и социальнопсихологического характера. Указанные причины могут провоцировать возникновение факторов, влияющих на социальную мобильность: дискриминации различного рода, конкуренция, безработица, неуверенность в собственных силах, недоверие к официальным государственным органам и т. д. [13]. Примерами неиституционализи-рованных каналов социальной мобильности в профессиональной сфере могут служить протекционизм, коррупция, вхождение в преступные структуры и др. Классификация общественно значимых каналов социальной мобильности представлена в работах многих ученых. Причем значимость каналов мобильности пересматривается с учетом изменяющихся в обществе условий. Так, например, С.А. Просольченко, оставаясь в целом солидарен с классификацией каналов мобильности П.А. Сорокина, исключает из нее лишь институт религии и добавляет несколько других институциональных образований. В итоги его классификация выглядит следующим образом: «1) семья; 2) система формального образования и воспитания; 3) вооруженные силы; 4) политические партии; 5) собственность; 6) разделение труда, профессионально-квалификационная структура; 7) система тотальных организаций (связанная с принудительными практиками социальной мобильности); 8) средства массовой информации» [14, с. 249]. Следует также подчеркнуть, что в процессе раз- вития общества меняется и значимость каналов мобильности. Так, институт семьи рассматривается П.А. Сорокиным в контексте заключения выгодного брачного союза с представителем другого социального статуса. Брачные союзы подобного типа приводили и приводят либо к повышению социального статуса одного из супругов до статуса другого, либо к его снижению. В обществе демократическом, отмечает П.А. -Сорокин, имеет место «…взаимное «притяжение» богатых невест и бедных, хотя и титулованных, женихов. Оба партнера достигают тем самым: получения финансовой поддержки своему титулованному положению для сохранения его на необходимом уровне – одному, другой же продвигается по социальной лестнице благодаря богатству» [17, с. 403]. Следует подчеркнуть, что институт семьи играет важную роль при осуществлении социальной мобильности в обществах закрытого или традиционного типа, где социальный статус человека в большей степени зависит от его происхождения. В современных обществах семья в процессе социальной мобильности перестает играть роль основного канала мобильности. Тем ни менее, влияние данного института на стратегии социальных перемещений индивидов прослеживается довольно четко и в этом контексте институт семьи уже начинает рассматриваться в рамках теории воспроизводства культурного капитала П. Бурдье, так как в большинстве случаев, именно тот культурный капитал, который передается от родителей к детям, играет немаловажную роль в их дальнейшем самоопределении и позиционировании себя в обществе, если индивиды воспринимают капитал как установки, нормы, традиции и социальные связи, характерные для данной семьи. «Иными словами, в рыночной экономике и в условиях социального неравенства культурный капитал может быть превращен в доход и статус, которые и должны стать его объективными измерителями» [10, с. 73]. Кроме того, в определенных случаях институт семьи может стать единственной возможностью изменения социального статуса индивида в положительную сторону. В большей степени это касается детей и подростков, лишенных воспитания в родительской семье (то есть, детей-сирот и детей, чьи родители лишены родительских прав). Как правило, дети и подростки, лишенные родительского воспитания, а так же растущие в неблагополучных семьях, имеют разные «стартовые» позиции и возможности по сравнению с детьми из семей с достаточным уровнем благополучия, поэтому представители таких незащищенных групп населения находят в приемной или патронажной семье порой единственную возможность для приобретения более благоприятного и социально одобряемого статуса в обществе [3].
Другой канал социальной мобильности – политические организации – не теряет своей актуальность в современных условиях и при определенных условиях может стать эффективным «трамплином» для индивидов в процессе их социальных перемещений. Основным компонентом социального статуса приобретаемого благодаря продвижению в политической системе, безусловно, является власть. Политические партии существуют и действуют только во имя борьбы за власть и отстаивание своих приоритетов. Французский социолог и политолог М. Дюверже, изучая генезис и структуру политических партий, в своей известной работе «Политические партии» показывает, как меняются способы борьбы за власть в зависимости от типа партии. Анализируя исторические примеры, приводимые М. Дюверже при описании устройства партии и системы легитимации ее лидеров, можно прийти к выводу о том, что партия всегда являлась универсальным каналом для осуществления восходящей социальной мобильности для наиболее способных и предприимчивых индивидов. В связи с этим, М. Дюверже отмечает, что в определенную историческую эпоху индивиды выбирают не только идеал политической структуры, но и предпочтительный способ передачи власти внутри социальных групп, в результате чего одни индивиды становятся легитимными лидерами, а другие отвергаются [6]. П.А. Сорокин уделял политическим организациям, как каналу вертикальной циркуляции, также большое значение. Индивид, попавший в политическую организацию, по его мнению, имеет шанс подняться вверх по карьерной лестнице, если не благодаря собственным заслугам, то благодаря автоматическому продвижению по службе с течением времени.
Профессионально-квалификационная структура напрямую связана с осуществлением индивидом социальной мобильности, поскольку сфера профессиональной деятельности является одной из основных для любого индивида, престиж и значимость профессии во многом определяет его социальное положение. Не всегда мобильность в данной сфере может быть восходящей, поскольку при потере работником или служащим необходимого уровня квалификации, может последовать его понижение в должности или увольнение с места работы. Реализация в профессиональной сфере сопровождает человека всю активную часть его жизни, поэтому, то насколько высоко он смог подняться по лестнице должностных позиций в своей организации, в конечном итоге является показателем уровня и направления его социальной мобильности. Повышая уровень своих профессиональных знаний и навыков, приобретая новые социальные связи, человек может способствовать своему продвижению вверх в должностной структуре, поэтому профессиональную мобильность можно еще рассматривать и в ракурсе готовности и способности личности приобретать знания и умения, обеспечивающие эффективность в выбранной им профессиональной сфере.
Средства массовой информации, выделенные С.А. Просольченко в качестве инструмента управления социальной мобильностью, характеризуются автором следующим образом: «Институт средств массовой информации как инструмент управления социальной мобильностью мы назовем формирующимся: его нельзя с уверенностью назвать ни основным, ни вспомогательным, ни базовым. Активно развиваясь в течение XX и начала XXI в., он порождает множество собственных практик и модифицирует уже существующие» [14, с. 250]. Институт средств массовой информации, в данном контексте, следует рассматривать в большей степени как институт контроля над процессами социальной циркуляции в обществе. Имея рычаги воздействия на массовое сознание, СМИ может плавно кор- ректировать восприятие людей в области тех или иных поведенческих установок.
Вооруженные силы или институт армии, в понимании П.А. Сорокина, приобретают особенно важную роль в военное время. Однако, индивид попадающий в ряды вооруженных сил приобретает возможность продвинуться вверх по социальной лестнице и в мирное время, в том числе благодаря своим собственным заслугам и способностям. Как правило, продвижение вверх по социальной лестнице осуществляется в режиме замещения одних должностей другими, с последующим присвоением военнослужащему очередного звания. При появлении вакантной должности в служебной структуре, она занимается нижестоящим, рекомендованным на замещение этой должности военнослужащим. Военная среда отличается жесткой и формализованной структурой и в совокупности с тотальными государственными организациями является уже не только каналом социальной мобильности для людей, но и механизмом осуществления принудительного контроля над практиками их социального перемещения.
Образование, как канал социальной мобильности, имеет огромное значение для любого человека. П.А. Сорокин, подчеркивая значимость и возможности образования, как канала вертикальной циркуляции, отмечал: «Не окончив университета или колледжа, фактически нельзя (а в некоторых европейских странах запрещено даже юридически) достичь какого-либо заметного положения среди высоких правительственных рангов и во многих других областях. И наоборот: выпускник с отличным университетским дипломом легко продвигается и занимает ответственные правительственные посты вне зависимости от его происхождения и его семьи» [17, с. 396]. Другими словами, от уровня образования индивида во многом зависит его статусное положение. В процессах социальной мобильности всегда наблюдается некоторая непропорциональность, поскольку индивиды, как правило, стремятся к более высокому положению и опасаются снижения своего социального статуса. Без соответствующего уровня образования в современном обществе весьма затруднительно, а порой невозможно продвижение в любой сфе- ре (и, в первую очередь, в профессиональной). Низкий образовательный уровень индивида ограничивает возможности его социальных перемещений до соответствующих границ. В тоже время наличие образования как такового еще не гарантирует индивиду успешное осуществление практик социальных перемещений, поэтому в процессе обучения необходимо обращать внимание на формирование не только профессиональных, но и личностных качеств, позволяющих предпринимать решительные шаги в сложных трудовых и жизненных ситуациях. Другими словами, «диапазон многообразия личностного содержания» должен задаться «не только свободным индивидуальным выбором, но и природой общества, степенью его функциональной дифференциации, многообразия целей и ценностей развития» [18, с. 61]. В противном случае, как отмечает С.Б. Токарева, «люди, …которые не мыслят свою жизнь в терминах «проективности» и «конструктивности», оказываются оттесненными на периферию современного общества…» [19, с. 117]. Образование же помогает людям мыслить именно проектно и конструктивно и в условиях научно-технического прогресса избежать девальвации интеллектуального капитала.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить: проблемам социального перемещения в обществе (учитывая значимость этого феномена в формировании социальной структуры и «выстраивании» жизненного пути индивидов) в научной литературе уделялось и уделяется пристальное внимание. Однако, учитывая тот факт, что социальная мобильность и профессиональная мобильность, как ее разновидность, являются сложными процессами и приобретают специфические черты в условиях изменяющего общества, изучение этих феноменов и в дальнейшем требует комплексного и всестороннего подхода. При этом особым образом следует подчеркнуть, что хотя перемещение индивида в социальном пространстве, а так же получение и /или изменение им своего социального статуса может происходить под влиянием различных факторов и использования разных каналов мобильности, образование в их ряду занимает одно из первостепенных мест. И в этой связи актуализируется задача предоставления качественного образования и формирование у учащихся профессиональных и лидерских качеств, которые и создают базу его обладателю для осуществления высокой социальной мобильности.
Список литературы Социальная мобильность в научном дискурсе общественных наук
- Арутюнян, Ю. В. Социальная структура сельского населения СССР/Ю. В. Арутюнян. -М.: Мысль, 1971. -376 с.
- Буланова, М. А. Теоретико-методологические аспекты исследования социальной мобильности/М. А. Буланова//Власть и управление на Востоке России. -2010. -№ 4. -С. 136-142.
- Бурдье, П. Формы капитала/П. Бурдье//Западная экономическая социология. -М.: РОССПЭН, 2004. -680 с.
- Гидденс, Э. Стратификация и классовая структура/Э. Гидденс//Социологические исследования. -1992. -№ 9. -С. 112-123.
- Голдторп, Дж. Межпоколенческая классовая мобильность в современной Великобритании: политические аспекты и результаты исследований/Дж. Голдторп, М. Джексон//Зарубежные исследования. -2009. -№ 10. -С. 181-200.
- Дюверже, М. Политические партии/М. Дюверже. -М.: Академический Проект, 2000 -538 с.
- Заславская, Т. И. Об изменении критериев социальной стратификации российского общества/Т. И. Заславская. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://lomonosov.econ.msu.ru/2007/17/posyhova_ou.doc.pdf (дата обращения: 18.09.2014). -Загл.с экрана.
- Ковалева, А. И. Профессиональная мобильность/А. И. Ковалева//Знание. Понимание. Умение. -2012. -№ 1. -С. 298-300.
- Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура/Р. Мертон. -М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2006. -873 с.
- Николаев, В. Г. Человек маргинальный/В. Г. Николаев//Вопросы социальной теории. -2010. -Т. 4. -С. 354-372.
- Очкина, А. В. Культурный капитал семьи как фактор социального поведения и социальной мобильности./А. В. Очкина//Мир России. -2010. -№ 1. -С. 67-88.
- Парк, Р. Э. Культурный конфликт и маргинальный человек/Р. Э. Парк//Социальные и гуманитарные науки. -1998. -Серия 10. -Вып. 2. -С. 172-175.
- Поппер, К. Открытое общество и его враги/К. Поппер. -М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. -448 с.
- Посухова, О. Ю. Неинституционализированные каналы профессиональной мобильности в российском обществе/О. Ю. Посухова. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://lomonosov.econ.msu.ru/2007/17/posyhova_ou.doc.pdf (дата обращения: 07.09.2014). -Загл. с экрана.
- Просольченко, С. А. Социальная мобильность, ее каналы и механизмы. Социальные институты как инструменты управления социальной мобильностью/С. А. Просольченко//Научные проблемы гуманитарных исследований. -Пятигорск: ПГТУ, 2010. -№ 7. -С. 242-252.
- Реутова, М. Н. Межпоколенная мобильность молодежи: профессиональный и образовательный аспекты/М. Н. Реутова//Социальная политика и социология. -2004. -№ 3. -С. 54-67.
- Смирнова, Н. В. Социальное неравенство: теоретические аспекты проблемы/Н. В. Смирнова//Теория и практика общественного развития. -2009. -№ 2. -С. 37-44.
- Сорокин. П. А. Социальная и культурная мобильность/П. А. Сорокин//Человек. Цивилизация. Общество. -М.: Политиздат, 1992. -543 с.
- Стризое, А. Л. Адаптация человека к процессам модернизации и переход к демократии/А. Л. Стризое//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные отношения. -2012. -№ 3 (18) -С. 60-67.
- Токарева, С. Б. Методология социального конструирования и социальный конструктивизм как методология/С. Б. Токарева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные отношения. -2011. -№ 2 (114) -С. 113-118.
- Черныш, М. Ф. Социальная мобильность и массовое сознание/М. Ф. Черныш//Социологические исследования. -1995. -№ 1. -С. 134-138.
- Шубкин, В. Н. Социология и общество: научное познание и этика науки/В. Н. Шубкин. -М.: ЦСПиМ, 2010. -424 с.