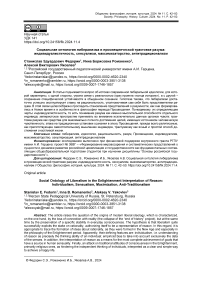Социальная онтология либерализма в просвещенческой трактовке разума: индивидуалистичность, сенсуализм, максимизаторство, антитрадиционализм
Автор: Федорин С.Э., Романенко И.Б., Яковлев А.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается вопрос об истоках современной либеральной идеологии, для которой характерны, с одной стороны, утрата связи с реальностью (крах проекта «конца истории»), а с другой - сохранение специфической устойчивости в обыденном сознании. Гипотеза такова, что либерализм достаточно успешно эксплуатирует ставку на рациональность, уполномочивая сам себя быть представителем разума. В этой связи целесообразно проследить становление представлений о разумности, как они формировались в Новое время и в особенности в философии периода Просвещения. По-видимому, их определяющие черты: индивидуалистичность, то есть понимание разума как именно мыслительной способности отдельного индивида; эмпиристское пристрастие принимать во внимание исключительно данные органов чувств; трактовка разума как средства для максимально полного достижения целей, имеющих источником человеческую чувственность; атака на традиционные установки сознания в эпоху Просвещения, прежде всего религиозные, как препятствующие самостоятельному мышлению индивидов, трактуемому как ясный и простой способ достижения счастливой жизни.
Либерализм, идеология, рациональность, разум, просвещение, индивидуализм, максимизаторство, секуляризация, антитрадиционализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149147064
IDR: 149147064 | УДК: 141 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.4
Текст научной статьи Социальная онтология либерализма в просвещенческой трактовке разума: индивидуалистичность, сенсуализм, максимизаторство, антитрадиционализм
,
,
,
1,2,3Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia , , ,
Введение в проблему . Современность пребывает в состоянии непрерывных конфликтов, нарастания напряженности в различных аспектах: социальном, политическом, экономическом, экологическом, военном, этническом, культурно-религиозном и т.п. В связи с этим уместно отметить, что происходит это вопреки известным недавним упованиям как раз на глобальное уменьшение такого рода проблемности в свете идеи наступающего «конца истории», вплоть до ожиданий «многовековой скуки» (Фукуяма, 1990: 148). Вместе с тем стремительное усиление уровня напряженности и вообще интенсивности процессов в практической жизни не сопровождается возрастанием степени понимания происходящего в теоретическом плане. Способность людей постигать смысл наблюдаемых процессов явно отстает от скорости развертывания последних. Впрочем, это не слишком удивительно, поскольку нынешняя быстрота глобальных качественных изменений беспрецедентна. Человеческий интеллект плохо приспособлен справляться с такими темпами и масштабами трансформаций, несмотря на все достижения научно-технической цивилизации. Социально-политические идеи, по-видимому, не могут продуцироваться с той же быстротой, как инженерные решения или программное обеспечение компьютеров. В результате то, что происходит в наши дни, в основном измеряется теми же концептами, которые были выработаны в предшествующие столетия. Имеется острый дефицит идей и доктрин, которые отвечали бы на вызовы эпохи и предлагали адекватное понимание происходящего.
Толкования собственных действий для людей являются и объективной неизбежностью, и практической необходимостью. Они всегда каким-то образом имеются и без них человеческие действия не могут осуществляться. Вопрос лишь в том, в какой мере эти толкования адекватны реальности, от чего зависит эффективность действий. Известное утверждение К. Маркса, что идеи становятся материальной силой, если овладевают массами (Маркс, 1985), можно представить и иначе: без идей массы теряют силу. Однако не любые идеи могут массами овладеть и не с одинаковой силой и скоростью. Кроме этого, интерпретации происходящего для их результативного применения должны получить в достаточной степени ясное и систематическое теоретическое оформление в виде внятных социально-философских концепций. Вопреки усиливающейся очевидности практической несостоятельности концепции «конца истории» (Hochuli, 2022), лежащий в ее основании комплекс идей тем не менее продолжает удерживать сильные позиции в массовом сознании. Речь идет о том, что в широком плане обозначается как либерализм, либеральная идеология (Doyle, Gauchet, 2022).
Критика либерализма многообразна, но в целом малоэффективна. Взгляды, претендующие на альтернативное толкование происходящего, не создали серьезной конкуренции – и в этом можно согласиться с точкой зрения, высказанной Ф. Фукуямой еще в его первой знаменитой статье (Фукуяма, 1990). К этим взглядам можно отнести следующие подходы: цивилизационные, геополитические, постиндустриальные, консервативно-националистические, неомарксистские, мир-системные, религиозно-фундаменталистские и др. Приходится признать, что либеральные принципы являются превалирующими в массовом сознании. В особенности их позиции сильны, если дело касается явной аргументации, в ситуации спора (Гуторов, Ширинянц, 2020: 121). Мы имеем в виду, что человек может не поддерживать политические течения и деятелей, проводящих либеральную политику, однако одновременно для него затруднительно будет не соглашаться с важностью теоретических положений, созвучных собственно либеральным лозунгам. В этой связи приведем показательный пример. В существенном государственном документе1, отражающем стремление обозначить некую альтернативу глобалистской идеологии, перечисление «традиционных ценностей» начинается с таких пунктов, как «жизнь, достоинство, права и свободы человека», с чем готовы согласиться представители других идеологических течений. Это же касается таких принципов, как «рыночная экономика» и «верховенство закона», которые входят в must have любых представлений об устройстве современного общества. Здесь сразу следует оговориться, что сказанное следует понимать не в плане указания на недостатки, подлежащие исправлению, но как обозначение некоей реальной проблемы.
Этой проблемой является специфическая живучесть либеральной идеологии, притом что современная действительность все более вступает с ней в диссонанс (Дёмин, 2017: 83). Влиятельность этой идеологии имеет основания более глубокие, нежели те или иные теоретические работы выдающихся либеральных мыслителей. Также в ее живучести не играет решающую роль какая-либо специальная пропаганда, откровенная или в виде скрытой «мягкой» силы. Несомненно, более значительную роль играет то, что господствующая в современности экономическая система капитализма активно задействует принципы либерализма. Соответственно, образ мыслей современного человека, с неизбежностью вовлеченного в существование по правилам системы капитализма, воспринимает эти принципы как нечто само собой разумеющееся. Однако можно предполагать, что и мощное воздействие практической логики капиталистической действительности не исчерпывает оснований, обеспечивающих либеральному миропониманию его устойчивость.
Представляется, что имеются другие, по крайней мере, не менее значимые факторы. Речь идет о том, что провозглашаемые либеральной идеологией принципы вступают в специфический консонанс с некоторыми фундаментальными родовыми характеристиками человека, которые можно по праву отнести к самой его «природе» или «сущности». К числу таких основополагающих для понимания человека свойств следует отнести способность к разумному мышлению, а также теснейше связанную с этим практическую способность самостоятельного принятия решений, выражаемую в понятии «свобода». Либерализм делает первоочередную ставку именно на эти факторы, и ожидаемо сообщает ему значительную привлекательность. Однако сразу же следует заметить, что при обстоятельном рассмотрении полная гармония принципов данного подхода и природы человека более чем проблематична. Либерализму следует поставить в упрек, что он весьма самонадеянно позиционирует себя как безоговорочного эксперта по вопросам свободы, бесцеремонно «приватизируя» таковую уже в своем названии. В не меньшей степени это касается и претензий либерализма на право говорить от имени основополагающей человеческой способности рационально мыслить. Действительно, с самого начала своего становления и до новейшей современности либерализм провозглашает своим центральным пунктом опору на «разум», рациональность. И следует признать, что в ряде аспектов это не лишено действительных оснований. Однако последнее не означает, что можно поставить знак равенства между либеральной позицией и точкой зрения разума вообще. По всей очевидности, дело обстоит так, что теоретическое изложение проблематики сущности человеческого мышления позволяет задействовать ряд ее кардинальных аспектов для продвижения определенных политических позиций. И это обстоятельство проистекает из объективной сложности природы того самого «разума», который новоевропейская цивилизация изначально написала на своем знамени. Необходимо разобрать вопрос о том, в какой мере состоятельны свойственные либерализму претензии на выражение точки зрения разума. Эти абстрактные притязания в значительной степени позволяют ему сохранять изрядную долю привлекательности, хотя его фактические возможности предлагать решения современных проблем все более ограничены. Анализ данной тематики не может не затрагивать наиболее теоретичных, а именно философских случаев выражения политической линии либерализма в их историческом становлении.
Трансформации социальной реальности в Новое время и запрос на их теоретическое обоснование . В определенный исторический момент, впоследствии названный Новым временем, происходят кардинальные социальные изменения, беспрецедентные по глубине и нарастающей быстроте. Сущностью их следует признать – вслед за К. Марксом и М. Вебером – универсальную экспансию капитализма как системы хозяйства с сопутствующими ему социальными институтами и культурными нормами (Коробейникова, 2014: 7). Что касается причин этих изменений, то следует подчеркнуть исключительную важность этого вопроса. Однако на него едва ли можно однозначно ответить указанием на какой-либо определенный фактор. Вместо этого следует принять, что многовековое «количественное» накопление культурных изменений на каком-то этапе претворилось в новое «качество» технологических новаций, породивших и иную общественную реальность, впоследствии обозначенную как «индустриальное общество».
Эти социальные изменения не могли не вызвать у людей, одновременно и захваченных ими, и творящих их, потребности в истолковании происходящего. Имевшиеся в предшествующую эпоху интерпретации людьми происходившего с ними, опирались в основном на два источника – неформальные традиционные нормы, а также на преимущественно религиозные по характеру письменно сформулированные положения. Обширная богословская литература Средневековья, за немногими исключениями, не была ориентирована на сколько-нибудь серьезные задачи по изложению сути и перспектив общественно-политического устройства. Но в Новое время ситуация решительно меняется. Тем не менее лишь к XVIII в., то есть собственно к эпохе Просвещения приобретает определенные очертания проект самопонимания для новоевропейского человечества.
Принцип индивидуального разумения. Для большинства перечисленных и подобных им разнообразных подходов можно указать некоторый объединяющий принцип опоры на разум. Хотя данное утверждение может показаться совершенно тривиальным, но в данном контексте оно заслуживает некоторых пояснений. Вообще полагать разум основанием миропонимания не является чем-то новым для философской мысли, которая в свою очередь служит основанием и выражением широких идеологических построений. Акцент на Логос, «управляющий всем при помощи всего», превалировал в античной мысли от Гераклита до Плотина. Также и в Средние века, например, утверждалось, что сущность Бога – в его мышлении, а человек подобен ему именно разумом, хотя собственно он несовершенен и должен быть ведом Откровением. Тем не менее разум, на который опирается Новое время, не космический и не божественный, а именно человеческий, тот, который принципиально одинаково находит в себе каждый отдельный субъект. «Индивид, вернее, его разум, становится главной интеллектуальной и нравственной инстанцией» (Грачев, 2019: 22).
В этой связи считаем весьма примечательными рассуждения, имеющиеся в книге А. де Токвиля «Демократия в Америке», вышедшей почти двести лет назад, регулярно упоминаемой, но недостаточно читаемой в наши дни. В главе «О философском мышлении американцев» автором предлагается замечательная оценка сущности и основных этапов эволюции новоевропейского мышления. Сущность эта – что неудивительно – проявилась в максимальной чистом виде уже не собственно в Европе, но в США. Она состоит в признании определяющей роли усилий индивидуального разума каждого. «Если идти дальше и из этих различных черт выбрать одну основную, причем такую, которая могла бы обобщить почти все остальные особенности, я бы сказал, что умственная деятельность всякого американца большей частью определяется индивидуальными усилиями его разума. Таким образом, Америка – это страна, где меньше всего изучают предписания Р. Декарта, но лучше всего им следуют» (Токвиль, 1992: 319). И такое положение дел, по мнению А. де Токвиля, имеет истоком усилия религиозных реформаторов XVI в., а затем это было решающим образом сформулировано у Р. Декарта и, наконец, получило широкое распространение в эпоху Просвещения. «Кому не понятно, что Лютер, Декарт и Вольтер использовали один и тот же метод и что различия между ними сводились лишь к более или менее широкому толкованию возможностей его применения?» (Токвиль, 1992: 319). Эти суждения А. де Токвиля представляются особенно показательными именно потому, что они сделаны почти два столетия назад, в 30-е гг. XIX в., по горячим следам тех эпохальных преобразований эпохи Нового времени, о которых идет речь. Они показывают, как люди непосредственно воспринимали и оценивали ведущие идеи своего времени.
Классическая философия Нового времени о нормах общества: усилия рационалистов и победа эмпириков. Последующие усилия великих последователей Декарта, Спинозы и Лейбница были направлены на то, чтобы с позиций индивидуального разума предложить некоторое общее метафизическое толкование мироздания и найти подобающую замену античному и средневековому видению мира как совершенного, гармоничного, целого. Соответственно, интенция состояла в том, чтобы предложить мягкий переход версии «спасения» от религиозного к закамуфлированному атеистическому. Однако эти интеллектуальные конструкции не могли вполне удовлетворить эпоху, нацеленную не на примирение с миром, а на радикальное его изменение, прежде всего мира социального. Подобные попытки философов «рационализма» были обречены. Средством разрушения мира стал радикальный эмпиризм и бескомпромиссный сенсуализм. Именно последний выступил предельным основанием в окончательном решении вопроса об интерпретации человеческой деятельности, которое оформилось в эпоху Просвещения.
Что такое индивидуальный разум, с позиций которого в Новое время интерпретировалась человеческая деятельность? Декартова попытка истолковать его как проявление неких врожденных идей, заложенных Богом, чтобы дать человеку ключ к полному уразумению мироздания, была решительно отвергнута Дж. Локком, который имел очень сильное влияние на последующих просветителей вплоть до последнего времени. Концепция разума у самого Дж. Локка была «заточена» именно на критику картезианства, он видел свою задачу в том, чтобы показать происхождение действий разума вообще исключительно из опыта, из простейших чувственных данных, в его концепции разум не способен судить о чем-то без обращения к опыту. В этой разрушительной работе Дж. Локк оказался весьма убедительным, однако примечательно, что его эм-пирицистский радикализм сразу же нивелируется заявлением о том, что опыт неизбежно приводит нас к признанию Бога как творца мира и человека. И далее наблюдение природы сообщает нам его волю относительно нас самих (Локк, 1988).
Что касается законов окружающего мира, то тут позиция эмпиризма всегда неизменна: следует терпеливо познавать природу опытным путем. Но иначе дело обстоит с человеческим обществом. Здесь уже долгий путь постепенного открытия не кажется подходящим: эти законы нужны все и сразу. И именно поэтому Дж. Локку столь нужна ссылка на существование и замысел Бога: он надеется, что, прямо признав его, удастся как-то успешнее распознать вышнюю волю, нежели используя какие-то обходные способы ее выявления. В рассуждениях Дж. Локка находим очень важную и четко обозначенную альтернативу: является ли разум человека только лишь
«исследующим и открывающим» нормы жизни людей, предписанные божественной волей или же он сам «устанавливает и диктует» (Локк, 1988: 4) эти нормы? Сам Дж. Локк определенно придерживается первой позиции. Это показывает, насколько существенна для философа была возможность ссылаться на некий высший замысел в отношении природы человека и общества.
Но почему не обойтись без Бога вообще, оставив одну природу, раз уж только лишь из ее наблюдения разум открывает законы общежития? Соблазн задаться этим вопросом не может не возникать. Реально ли предположить, что Дж. Локк теоретически настаивает на Боге лишь потому, что не желает практических неприятностей в свое не слишком веротерпимое время? Такое решение маловероятно хотя бы потому, что свое понимание общества, из которого впоследствии вырос классический либерализм, Дж. Локку, очевидно, нужно обосновать именно волей Всевышнего. Нужно подчеркнуть, что это обстоятельство исключительно показательно и одновременно противоречиво. Парадокс тут в том, что «козырной картой» эмпиризма – уже до времен И. Ньютона с Дж. Локком и тем более после – всегда был рациональный подход, выдержанный в последовательно естественнонаучном ключе, с отвержением всего, что недоступно наблюдению, эксперименту, не верифицируемо, принципиально не фальсифицируемо и т. п. Вместе с тем после демонстрации родства с наукой, исследующей природные закономерности, после заверений в независимости от каких-либо догм и суеверий, в приверженности исключительно разумным доводам, эмпиризм плавно переходит на такие предметы, как общественные институты, нормы, правила, установления и т. п. И в данной ситуации проявляется выраженная тенденция к тому, чтобы придать соответствующим представлениям своего рода трансцендентное освещение – не только в плане моральной возвышенности, но именно как некий ореол святости («священные права»), связанный с многозначительными представлениями о некоем сокровенном замысле природы, высшем смысле мироздания, и просто о Боге, конечно же, предусмотрительно максимально освобожденном от традиционных теологических трактовок.
Прямые указания на Творца как на источник человеческих общественных установлений, подобные тем, что встречаются у Дж. Локка, могут не иметь места в теоретических философских рассуждениях. Но это не меняет сути дела. Эмпиризму, очевидно, не хватает средств прямой аргументации для обоснования общественных институтов опытом, и он активно прибегает к косвенным средствам, к подразумеваниям, к намекам и ожиданиям интуитивного отклика у имеющих к тому склонность. И подобные подразумевания так или иначе отсылают к чему-то совершенно противоположному внятному смыслу научных теорий, которые в то же самое время задействуются для обеспечения привлекательности эмпирического миропонимания. Квинтэссенцией такого рода «туманных» представлений является «невидимая рука рынка», притом что «рынок» является более поздним добавлением к выдающейся метафоре А. Смита «invisible hand» (Смит, 2007), скорее, лишним и даже уводящим от сути дела.
Разум как средство нахождения средств для достижения целей субъекта; «макси-мизаторство» . В большинстве своем деятели Просвещения приложили значительные усилия, чтобы избавиться от прямых ссылок на волю Бога. Они охотно перенимают у Дж. Локка эмпиризм и сенсуализм, однако далее действуют иначе. Задача состоит в том, чтобы сконструировать на основе ощущений комплекс принципов деятельности человека и общества без того, чтобы подкреплять их прямыми ссылками на «высшее могущество». При таком подходе разум – вопреки точке зрения Дж. Локка – предстает как «устанавливающий», а не лишь «открывающий» нормы человеческой жизни. Ведущим критерием правильности провозглашается собственно их «разумность». Та или иная общественная институция сама должна быть «разумной», а не лишь обнаруживаться разумом. Но при этом совершается кардинальное переосмысление самого разума, который лишается самодовлеющего характера, признаваемого за ним с античности, и ставится в зависимость от чего-то внешнего, выступая лишь как нечто подчиненное. Эта линия рассуждений последовательно проведена П.А. Гольбахом – не самым блестящим, но самым систематичным философом Просвещения. У него находим четкую и откровенную формулу: разум – это инструмент отыскания средств для достижения целей человека. Сами эти цели П.А. Гольбаху совершенно ясны: они определяются поиском «продолжительных приятных ощущений» (Гольбах, 1963: 14), для обозначения которых в совокупности он использует старое доброе понятие «счастье».
Таким образом, разум – это более не порядок мироздания, нацеленный на достижение совершенства, и даже не независимый инструмент человеческого познания, направленный на теоретическое раскрытие целей «верховного законодателя» (Локк, 1988). Он выполняет сугубо вспомогательную функцию, служит средством для нахождения средств для достижения целей, которые сами задаются вовсе не разумом, а определяются стремлением индивидуального субъекта к чувственным удовольствиям. В соответствии с этой логикой индивид стремится к возможно большим и продолжительным наслаждениям. У него нет никаких причин ограничивать себя в наслаждениях, если только их последствия не наносят вреда.
Можно предположить, что тут имеет место очередное явление эпикурейства, также постулирующего первенство наслаждений, но, во избежание тех из них, которые способны повлечь значительные неприятности, настойчиво рекомендующего прибегать к помощи разума. Однако решающим является то, что общая линия поведения древних эпикурейцев, несомненно, резюмируется в их важнейшем афоризме «Живи незаметно!». Эпикурейство прямо не возражало против каких-то особо насыщенных радостей жизни, но общий дух этой школы культивирует умеренность. Последняя ни в коей мере не отвечает тому пониманию смысла жизни, на которое нацелены усилия новоевропейских просветителей. На сцену выходит откровенное стремление субъекта к неограниченному получению удовлетворения, что стало считаться важнейшим критерием разумности. Впоследствии это получило наименование «максимизирующего поведения» и было оформлено в виде «аксиом рациональности».
«Неразумие» не становится предметом объяснения, оно устойчиво выступает предметом только осуждения. Надо заметить, что в таком подходе в целом сказывается кардинальная проблема человеческого мышления, когда оно пытается осмыслить собственно человеческую деятельность. К. Мангейм в анализе идеологических столкновений указывает, что людям, по сути, свойственно относиться к тем, кто исходит в мировоззренческих рассуждениях с иных позиций, чем они сами, как к лишенным способности правильно мыслить вообще (Мангейм, 1994: 65). Вместе с тем можно утверждать, что именно для носителей просвещенческого (либерального) сознания, как в XVII–XVIII вв., так и для их последователей, вплоть до наших дней, такая тенденция особенно характерна – и именно потому, что они уполномочивают себя быть доверенными лицами самого разума.
Секуляризм против традиционализма . Впрочем, можно сказать, что у Просвещения все же имеется определенное объяснение того, почему многие люди не пользуются возможностями своего собственного разумения, в том числе для того, чтобы познать «естественные» законы общества. В качестве причины указывается влияние со стороны злоумышленников, держащих людей в невежестве и извлекающих из этого вульгарную корысть. И. Кант называет этих злоумышленников иронически «опекунами» (Кант, 1994), а Гельвеций и П.А. Гольбах прямо указывают на «духовенство» или попросту «попов», которые заключили «чудовищный договор с деспотизмом» (Гольбах, 1963; Гельвеций, 1974: 483).
Рационалистичное мировоззрение эпохи Просвещения видело явного врага в официальной религии (Воробьева, 2023). Это обстоятельство общеизвестно, но на нем следует несколько задержаться. Гольбах не уставал утверждать, что «только религиозные суеверия могут, преградив людям доступ к знаниям, запретить им следовать велениям разума; только они способны заставить людей отречься от законов собственной природы, от своего достоинства и своих неотъемлемых прав; обманывая людей» (Гольбах, 1963: 295). Разумеется, имеется и стандартно противоположный образ мыслей, который находит в религии свидетельство определенных глубинных потребностей человека в неких возвышенных устремлениях. И то, и другое по-своему не лишено оснований. Однако несомненно, что религия в истории прежде всего выступала как важнейший социальный институт и в этом качестве выполняла незаменимую организующую функцию на докапиталистической, «традиционной» стадии исторического развития. В этой связи мировые религии в основном утверждали традиционные социальные нормы, ориентированные на непосредственную поддержку коллективного, общинного существования. Они декларировали важность взаимопомощи, бескорыстия, прощения, примирения, неодобрительно относились к стяжательству (в том числе резко отрицательно – к ростовщичеству), соперничеству, эгоизму. В частности, христианство изначально выступало с такими поведенческими установками, как любовь к ближнему, крайняя уступчивость, жертвенность.
Важный элемент рациональности в таком миропонимании невозможно отрицать. Однако она выступает в заведомо усеченном, «ограниченном» виде. Несовершенство этого способа мышления, несомненно, сказывается в том, что понимание наиболее сложных реалий, каковыми являются процессы социального развития, остается недоступным, поскольку целостность изначально и принципиально выводится за рамки рассмотрения, то есть действует подход, известный как «методологический индивидуализм». В прежние эпохи целостные социальные процессы проецировались на общественное сознание в своеобразном и причудливом виде религиозных представлений. Но поскольку таковые в Новое время оказались отвергнутыми, то свято место закономерно заполнилось специфическими квазирелигиозными образованиями. Догматы были заменены «правами», «принципами» и «ценностями», которые ожидают быть принятыми независимо от обоснования. Эсхатология претворяется в обещание прогресса, одновременно бесконечного и вместе с тем приближающего к некоему окончательному историческому триумфу, аналогу Последнего суда. Необходимый для религиозного сознания душевный подъем воплощается в экзальтированном превознесении всё тех же прав и свобод и особо – в праведном негодовании по адресу необращенных. Религиозная самоотдача показывает себя в проповедях долженствования (например, участия в демократических процедурах). Верховная инстанция, ранее принадлежавшая Богу, принимает ряд обликов – прежде всего это, конечно же, «природа», которой вольготно приписываются намерения, желания, замыслы. В других контекстах данная роль отводится «народу» или «человечеству». Однако центральным фигурантом становится уже упомянутая «невидимая рука», действие которой распространяется не только на собственно экономику, но на политический процесс, на широкую сферу общения – всюду подразумевается благотворное и поистине чудесное действие оптимизационного саморегулирования (Розанваллон, 2007: 169).
На этой основе формируется собственно новоевропейский проект общественного устроения. Принципами и движущими силами такового можно считать эгоизм (собственно индивидуализм), антагонизм (конкуренцию), собственно либерализм («правовое государство»), ориентацию на «невидимую руку» и бесконечный прогресс. Комплекс этих принципов в совокупности составляет либеральную идеологию – серьезнейший фактор современной жизни общества. Несмотря на огромное внимание, уделенное ей выдающимися теоретиками, она по-прежнему нуждается в пристальном рассмотрении, в особенности с учетом непрерывно изменяющихся исторических обстоятельств. Анализ этого явления требует дальнейшего глубокого исследования, особенно в условиях разворачивающейся информационной эпохи, в которой возникли новые формы социально-политических конфликтов (Romanenko et al., 2022).
Список литературы Социальная онтология либерализма в просвещенческой трактовке разума: индивидуалистичность, сенсуализм, максимизаторство, антитрадиционализм
- Воробьева И.В. Идеи Поля Гольбаха об общественном договоре и их значение для современности // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2023. № 4. С. 67-78. https://doi.org/10.28995/2073-6401-2023-4-67-78.
- Гельвеций. Сочинения: в 2 т. М., 1974. Т. 2. 687 с.
- Гольбах П.А. Избранные произведения: в 2 т. М., 1963. Т. 2. 563 с.
- Грачев Н.И. Происхождение концепции прав человека и идея либерального государства // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2019. № 1 (126). С. 15-27.
- Гуторов В.А., Ширинянц А.А. Либеральная традиция и современный антилиберализм // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 1. История и археология. Философия. Политология. 2020. Т. 12, № 3. С. 120-126.
- Дёмин И.В. Критика идеологии прав человека в политической философии Алена де Бенуа // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2017. № 2 (22). С. 81-96.
- Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? // Сочинения: в 8 т. М., 1994. Т. 8. С. 29-37.
- Коробейникова Л.А. Классические ценности европейской культуры: к вопросу о возникновении и развитии // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014. № 4 (16). С. 5-11.
- Локк Дж. Сочинения: в 3 т. М., 1988. Т. 3. 688 с.
- Мангейм К. Избранное. Диагноз нашего времени. М., 1994. 704 с.
- Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. Вильнюс, 1985. 29 с.
- Розанваллон П. Утопический капитализм. История идеи рынка. M., 2007. 256 с.
- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 2007. 1056 с.
- Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. 554 с.
- Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134-148.
- Doyle N.J., Gauchet M. Neo-Liberal Ideology and the New World: an Interview with Marcel Gauchet // International Journal of Social Imaginaries. 2022. Vol. 1, iss. 2. P. 303-327. https://doi.org/10.1163/27727866-bja00016.
- Hochuli A. Social Purpose and Autonomy at the End of the End of History: a Response to Critics // New Perspectives. 2022. Vol. 30, iss. 4. P. 415-423. https://doi.org/10.1177/2336825x221132930.
- Romanenko I.B., Gapanovich S.O., Romanenko Y., Fedorin S. Conflict Misunderstanding in the Net Information Society // Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. Vol. 442. P. 166-174. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98832-6_15.
- Wilford P.T. Introduction: Religion and Enlightenment in the Democratic Age // Perspectives on Political Science. 2022. Vol. 51, iss. 4. P. 171-172. https://doi.org/10.1080/10457097.2022.2121111.