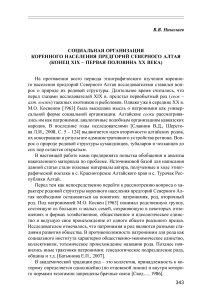Социальная организация коренного населения предгорий Северного Алтая (конец XIX - первая половина XX века)
Автор: Николаев В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521466
IDR: 14521466
Текст статьи Социальная организация коренного населения предгорий Северного Алтая (конец XIX - первая половина XX века)
На протяжении всего периода этнографического изучения коренного населения предгорий Северного Алтая исследователями ставился вопрос о природе их родовой структуры. Длительное время считалось, что перед глазами исследователей XIX в. предстал первобытный род ( сеок – алт. кость ) таежных охотников и рыболовов. Однако уже в середине XX в. М.О. Косвеном [1963] была высказана мысль о патронимии как универсальной форме социальной организации. Алтайские сеоки рассматривались им как патронимии, аналогичные подобным организациям кавказских народов. В последние годы исследователями [Славнин В.Д., Шерсто-ва Л.И., 2008, С. 5 – 124] выдвигается идея вторичности алтайских родов, их консервации в результате административного устройства региона. Вопрос о природе родовой структуры кумандинцев, тубаларов и челканцев до сих пор остается открытым.
В настоящей работе нами предпринята попытка обобщения и анализа накопленного материала по проблеме. Источниковой базой для написания данной статьи стали полевые материалы автора, полученные в ходе этнографической поездки в с. Красногорское Алтайского края и с. Турочак Республики Алтай.
Перед тем как непосредственно перейти к рассмотрению вопроса о характере родовой структуры коренного населения предгорий Северного Алтая необходимо остановиться на понятиях: патронимия, род, вторичный род. Под патронимией М.О. Косвен [1963] понимал родственную группу, состоящую из больших и малых семей, сохраняющую в некоторых отношениях и формах хозяйственное, общественное и идеологическое единство и ведущую свое происхождение от одного общего реального предка. Исследователем отмечалось, что патронимия и род являются разными стадиями развития общества. В противоположность патронимии для рода как социального института характерно общественно-экономическое единство, коллективизм, тотемическое происхождение названия рода. Позднее появились иные трактовки патронимии: генеалогическое подразделение рода, община и т.д. [Батьянова Е.П., 2007].
В академической традиции род – это коллектив, принадлежность к которому определяется однолинейно (по отцовской линии) и внутри которого нормами экзогамии запрещены брачные связи [Свод…, 1986].
Формализованного определения вторичного рода в отечественной этнографии так и не было предложено. Но, из исследований Л.Ш.Шерстовой следует, что вторичный род – это искусственный конструкт, возникновение которого обусловлено длительным совместным проживанием представителей нескольких родов в рамках одной административно-территориальной единицы, что способствует формированию общего экзоэтнонима и единой общности, на которую переносится часть признаков рода.
Основными характеристиками патронимии, как в принципе и рода, является общее название, совместные собрания, расселение и хозяйство, экзогамия, фиксируемые в той или иной степени до середины XX в. Интересно, что в с. Красногорском сохраняется отголосок давней традиции расселения. Одна из улиц села заселена сородичами, исчезнувшего уже с. Егона (улица расположена в той же стороне). При этом одна сторона заселена Сатлаевыми, а вторая Кухтуековыми (ПМА, 2008). В XX в. сохранялись только отдельные элементы хозяйственного единства: помощь сородичей при сборе калыма, хозяйственная взаимопомощь. Несмотря на коллективизацию в 1930 – 1940-е гг. продолжали соблюдаться границы родовых угодий. По воспоминаниям информаторов, родовая гора рода кузен – Пастуг-эзен (Танжаковы), Салоп (Танжераковы, Трапеевы), Пежене-унде – родовая гора Сумачаковых (ПМА, 2008).
Важным признаком рода является его наименование. Этимология наименований многих сеоков северных алтайцев остается спорной. Проще обстоят дела с названиями челканских кезеков ( кезек - порода, часть, отрезок ), совокупность которых и образовывала сеок . Большая часть из них имеют характер прозвищ. Так, Кандараковы - « ак паш » (рано голова белела, белая голова), «колчач» (кол - руки, чач - драка), «кожо» (песенники), Санжанаковы - « тельвеш» (молчуны ), Сумачаковы - « нён-докой» (кривой заяц) , Пустогачевы - « кызыл кос» (красные глаза) (ПМА, 2008). Во многом аналогично смысловое содержание имеют наименования подразделений сеоков у тубаларов и кумандинцев [Бельгибаев Е.А., 2003, С. 198-201; Потапов Л.П., 1972, с. 52-66.; Сатлаев Ф.А., 1974].
Возникновение названий сеоков уходит в глубину веков, а наименования кезеков и легенды, связанные с ними, сохраняются в памяти этнофоров старшего поколения до сих пор. Исследователи полагают, что кезеки ф ормируются к XIX в. в результате роста численности или принятия пришлых групп в состав сеоков . На это указывает и то, что аильная или сельская община у кумандинцев складывалась во второй половине XIX в. При этом население аила Ф.А. Сатлаев рассматривал как патронимию ( ук ).
У кумандинцев, тубаларов и челканцев, так и не появилось слова со значением «малая семья». Предлагавшиеся информаторами термины в той или иной степени синонимичны патронимии: « айыл », « чурт » («тюрт» или «дьурт» - поселение родственников, очаг), « кардыштыр» (челк.яз.: родня ), « пир уде дьатен кижлер » (челк.яз.: в одной избе живут), «пилелю кижи» (туб.яз.: много людей) и др.
В современной кумандинской литературе также используется слово « чурт » [Тукмачев Л.М., 2005]. Это косвенным образом указывает на сохранение патронимий, а значит и больших семей, до второй половины XX в., когда процесс утраты родного языка достигает значительных масштабов.
Позднее естественный прирост населения способствовал выделению дочерних патронимий, сопровождавшийся созданием нового кезека, или сохранением целостности старого в условиях образования нового аила. Так, в с. Красногорском живет представительница « салдыт кезек » ( дословно: солдатская порода) образованного на рубеже XIX - XX вв. Родоначальником его стал дедушка информатора Софронов Варлаам Кустаевич. Происхождение названия кезека информатор связывает с особенностями характера: дисциплинированные, суровые (ПМА, 2008). Реально за этим явлением стоит военное прошлое предков информатора, что отражено в метрической книге Макарьевского отделения Алтайской духовной миссии: в 1904 г. 6 ноября в возрасте 87 лет скончался отставной солдат-охотник из инородцев Шелканской волости с. Макарьевского Анфиноген Иванов Лоскутов (ЦХАФ АК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 649. Л. 70об.).
По материалам переписи 1917 г. можно проследить основателей некоторых аилов, живших на момент учета населения: Александр (возраст 100 лет) – Санькин аил, Филат (возраст 65 лет) – аил Пилат (ЦХАФ АК. Ф. 233. Оп. 1а. Д. 254, 389. Л. 6, 5).
По мнению Л.И. Шерстовой: кезек - основа организации традиционного комплекса жизнеобеспечения кумандинцев. Д.А. Функ прямо соотносит челканский кезек с патронимией. Представляется, что кумандинский и челканский кезек или подрод у тубаларов можно рассматривать как совокупность близкородственных патронимий.
Вхождение предгорий Северного Алтая в состав Российской империи положило начало складыванию экзоэтнонимов и вторичных родов на основе административно-территориальных единиц. У кумандинцев сложилось два подобных социальных института на основе Нижне- и Верхне-Кумандинской волости: орё- и алтына-куманды, практически полностью заменивших структуру сеоков .
Несколько сложнее происходили аналогичные процессы в среде тубала-ров и челканцев, у которых была заложена только основа вторичных родов ( тиргеш, комдош, кузен, юс ). Административные преобразования 1912 -1915 гг. затормозили данный процесс [Славнин В.Д., Шерстова Л.И., 2008, с. 5 – 124].
Последующие годы стали временем разрушения социальной структуры коренного населения предгорий Северного Алтая, подвергшейся консервации в предшествующий период со стороны государства. Втягивание в региональные миграционные процессы коренных жителей и приток переселенцев способствовали трансформации аильной общины в соседскую уже с конца XIX в. Перепись 1917 г. зафиксировала ситуацию, когда на в регионе не осталось практически не одного моноэтнического населенного пунктай. Аильная община (например, а. Пилат Озеро-Куреевой волости) сохранялась только в черне.
Земельная реформа начала XX в. и коллективизация 1930-х гг. подорвали хозяйственную основу социальной организации коренного населения, способствуя в дальнейшем утрате или трансформации идеологических, брачных и иных связей. Ликвидация неперспективных сел в 1970-е гг. привела к миграции коренного населения за пределы традиционных территорий проживания.
Таким образом, социальная организация коренного населения предгорий Северного Алтая, «семейно-родственная» по характеру, представляла собой: вторичный род – сеок – кезек (несколько патронимий) – айыл (аильная община - патронимия). Род как таковой в XIX в., утратил свое социальное значение, став, наряду с другими структурами, основой формирования вторичных родов. Нивелирование роли вторичных родов к середине XX в. и патронимий к 1970-м гг. окончательно разрушило социальную организацию аборигенов. Создание в конце ХХ в. национальных стала попыткой замены утраченных социальных институтов с целью возрождения коренных этносов предгорий Северного Алтая.