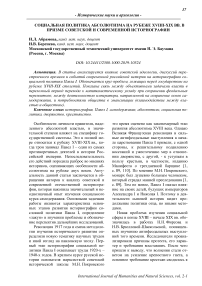Социальная политика абсолютизма на рубеже XVIIII-XIX вв. в призме советской и современной историографии
Автор: Абрамова И.Л., Берснева И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 2-1 (29), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние советской идеологии, дискуссий перестроечного времени и событий современной российской истории на историографию социальной политики Павла I. Обозначается круг проблем, лежащих перед государством на рубеже XVIII-XIX столетий. Показана связь между объективными задачами власти в переломный период перехода к капиталистическому укладу при сохранении феодальных пережитков; между деятельностью императора, направленной на сохранение основ самодержавия, и потребностями общества в эмансипации (взаимодействие между властью и обществом).
Историография, павел i, самодержавие, абсолютизм, социальная политика, дворянство, крестьянство
Короткий адрес: https://sciup.org/170190531
IDR: 170190531 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10524
Текст научной статьи Социальная политика абсолютизма на рубеже XVIIII-XIX вв. в призме советской и современной историографии
Особенности личности правителя, наделенного абсолютной властью, в значительной степени влияют на специфику государственной системы. Это в полной мере относится к рубежу XVIII-ХIХ вв., когда трон занимал Павел I – один из самых противоречивых деятелей в истории Российской империи. Непоследовательность его действий породила разброс во мнениях историков, оценивающих особенности абсолютизма на рубеже двух веков. Актуальность данной статьи заключается в обращении авторов к анализу советской и современной отечественной историографии, которая накопила значительный и неоднозначный опыт изучения социального курса самодержавия. Основными задачами работы являются характеристика основных этапов развития историографии сословной политики Павла I, определение «лакун» в изучении проблемы и обозначение перспектив дальнейших исследований.
Революция 1917 года и смена методологии изучения исторического развития определили новую тематику научных трудов и иной взгляд на павловскую эпоху. Первый этап историографии социальной политики Павла I охватывает труды 1920-х – 1940-х годов. В кратком курсе русской истории основателя марксисткой советской исторической школы М.Н. Покровского это время оценено как закономерный этап развития абсолютизма XVIII века. Однако Великая Французская революция и сильные антифеодальные выступления в начале царствования Павла I привели, с одной стороны, к решительному подавлению восстаний и ужесточению мер в отношении дворянства, с другой, - к уступкам в пользу крестьян, в частности, изданию Манифеста о трехдневной барщине [1, с. 89, 110]. По мнению М.Н. Покровского, монарх был душевно больным человеком, который страдал манией преследования [1, с. 89]. Тем не менее, Павел I оказал влияние на своих детей, будущих императоров Александра I и Николая I. Поэтому в деятельности сыновей историк видит продолжение политики отца, но иными методами.
Новая проблема изучения социальной сферы в конце XVIII – начале XIX вв. обозначилась в работах Н.Н. Фирсова и Н.В. Брюлловой-Шаскольской, посвященных изучению антифеодальных выступлений того времени. Исследователи проанализировали причины протеста, его характер и требования восставших. После чего пришли к выводу, что волнения стали ответом на усиление крепостного гнета, а основное требование крестьян сводилось к переводу их в разряд казенных, государственных [2, 3].
В послевоенный период в советской историографии окончательно утвердилось признание закономерности социальных мер абсолютной монархии в конце XVIII века [4-6]. Так, В.И. Самойлов, проанализировав деятельность правительства, пришел к мнению, о ее продворянской направленности. При этом исследователь отметил, что Павел I сочетал в государственном управлении военные методы с элементами социальной демагогии и определенными уступками крестьянам в ответ на революционное движение во Франции и антикрепостнические выступления в России [5].
На втором этапе историографии социальной политики Павла I (1950-е – первая половина 1980-х гг.) произошел подъем исторической науки. В этот период активно открывали и публиковали архивные материалы, издавали академические многотомные труды по истории России, а также работы по отдельным проблемам социально-экономического развития страны. Советские ученые исследовали темы, связанные с положением различных категорий крестьянства [7], крестьянскими волнениями 1796-1798 гг. [8, 9]; изучали правительственные проекты и законодательные акты, касающиеся крестьян [10]; анализировали положение дворянства [11, 12] и проблемы городских обывателей [13, 14]. Ученые пришли к выводу о том, что социальная политика абсолютизма на рубеже XVIII-XIX вв. была направлена, в первую очередь, на удовлетворение интересов дворянства. В исторической литературе распространяется точка зрения, что павловское время являлось продолжением политики абсолютизма XVIII века, направленной на расширение крепостничества, но в новых социально-экономических реалиях (нарастание кризисных явлений в экономике страны в условиях дальнейшего развития капиталистического уклада, усиление феодальной эксплуатации и рост массовых крестьянских выступлений в ответ на это). Соответственно власти вынуждены были корректировать ситуацию рядом уступок, одной из которых стал Ма- нифест 5 апреля 1797 года. Авторы отмечали, что основой внутренней политики Павла I было стремление укрепить крепостную систему, но панический страх перед распространением протестных настроений в стране вынудил императора утвердить в России прусско-полицейский казарменный режим, который коснулся и дворян. Самодержец обратился к практике Петра I, ужесточив дисциплину среди служилого дворянства [15, 16]. Особого внимания на данном этапе рассмотрения историографии заслуживает работа историка С. Б. Окуня, который проанализировал деятельность правительства с учетом углубления процесса распада феодальной системы [17]. По его мнению, частичная регламентация прав помещиков выражала декларативные намерения властей. Вместе с тем такие шаги, таких как открытие Вспомогательного банка для дворян, C. Б. Окунь расценил как доказательство про-дворянского курса во внутренней политике Павла I. Совместно с Э. С. Паниной ученый рассмотрел Манифест 5 апреля 1797 года с позиции сохранения крепостничества, а не нанесения удара по нему, оценив указ как образец социальной демагогии абсолютизма [18]. В итоге втором этапе историографии социальной политики Павла I складывается представление о стремлении самодержца сохранить существующий феодально-крепостной строй в условиях разложения крепостных порядков и расширения капиталистического уклада. Однако игнорирование теоретических взглядов монарха, который стремился к благоденствию всех поданных, не позволило историкам объективно оценить социальную политику самодержавия в конце XVIII-начале XIX веков.
Поэтому на третьем этапе изучения социальной политики Павла I (середина 1980-х – 1990-е гг.) ученые обратились к исследованию особенностей воззрений Павла I, его политике в отношении подданных. Популяризатор науки Н. Я. Эйдельман предложил идеализированный образ правителя, который пытался противопоставить “злому якобинскому равенству” идею рыцарства для спасения монархии и от революционных потрясе- ний, и от страха перед заговорами, и от беспощадности народного бунта [19]. Формирование политических настроений Павла I прослежено и в диссертации И.Л. Абрамовой, посвященной изучению сословной политики императора на основе комплексного тематико-хронологического исследования законодательства правительства, документов делопроизводства, мемуаров современников и записок наследника самого Екатерины II. На основе анализа связи практической деятельности императора не только с конкретноисторической обстановкой, но и с воплощением в жизнь его идей был сделан вывод о том, что социальная политика Павла I представляла собой попытку приспособить сословную систему общества к новым социально-экономическим и политическим условиям путем создания полицейского государства [20]. Консервативные взгляды монарха, по мнению большинства исследователей третьего этапа советской историографии, повлияли на укрепление авторитарной власти. Логичность и продуманность действий Павла I объяснялась историками не столько стремлением облегчить участь крестьян, сколько желанием сохранить крепостничество, привилегии дворянства и самодержавие в целом. Консерватизм самодержца стал ответом на вызовы времени, с которыми не сталкивались реформаторы Петр I и Екатерина II. Выработав общую характеристику павловского правления как логического продолжения политики предшествовавшего царствования, но другими методами, в условиях новой внутренней и внешней обстановки, советская историография, однако, не дала целостного представления о той эпохе.
На четвертом этапе отечественной историографии (середина 1980-х – 2000-е гг.) в связи с изменением общественнополитической ситуации в стране и поиском путей развития России оживились дискуссии, связанные с вопросами власти и общества, авторитаризма и свободы личности. В перестроечное время начали массово переиздавать источники и монографии дореволюционного периода. Постсоветское время изменило парадигму ана- лиза исторических процессов. Многообразие подходов к изучению истории открыло возможность более тщательного изучения роли и влияния императора на ход развития России. Расширился круг работ, анализирующих формирование характера самодержца [21, 22, 23, 26, 27], становление его социально-политических воззрений [24, 25, 28]. В историографии произошел очередной виток: на смену единству в определении павловской эпохи как закономерного этапа развития самодержавия (в советских научных трудах) ученые вновь стали оценивать Павла I то деспотом, то русским патриотом, пытавшимся вернуть Россию к допетровскому времени, подобно исследователям дореволюционного времени.
Чем это объясняется? С одной стороны, деидеологизация общественных наук способствовала более взвешенному изучению истории российского абсолютизма в целом и личности отдельных монархов в частности. Но с другой, - отказываясь от рассмотрения социальной политики в связи с экономикой, часть ученых впала в другую крайность. Намерения Павла I и его деятельность почти перестали соотносить с конкретно-исторической ситуацией в стране, с уровнем развития общественного сознания, с дискуссиями внутри правящей элиты. Императору стали приписывать несвойственные и той эпохе, и непосредственно Павлу I взгляды на решение таких насущных проблем российской действительности, как крепостничество и абсолютизм. Наиболее наглядно это прослеживается в работах А.Н. Долгих, А.А. Артоболевского, А.А. Рожнова, анализирующих Манифест 5 апреля 1797 года и реформаторскую деятельность павловского правительства [29, 30, 31]. Исследователи пришли к выводу, что в правление Павла I была предпринята первая законодательная попытка ограничения повинностей крепостных крестьян, повлекшая в конченом итоге отмену крепостного права. Монарх, в их представлении, из ревнителя укрепления полицейского государства преобразился в правителя, смягчившего крепостничество, вмешавшись в отношения крестьян и помещиков. Одновременно с этим продворянская политика абсолютизма Екатерины II, в оценке исследователей, противопоставляется антидворянской при Павле I c определенными ограничениями привилегий благородного сословия.
Подобная точка зрения на правление сына Екатерины Великой – защитника крестьянства и гонителя дворянства – получает развитие в целом ряде работ таких историков, как А.Г. Тартаковский, А.Б. Каменский, Е.В. Анисимов, В.А. Томсинов [32, 33, 34, 35]. Главная задача императора, по их мнению, сводилась к цементированию государственности. Монарх, мнил себя арбитром во взаимоотношениях дворян и зависимых от них крестьян. Вследствие этого он стал ограничивать вольности дворян, лишив их права на самоуправление. Но исследователи не учли того, что на законодательном уровне не были прописаны меры, ликвидирующие дворянские собрания. Юридические акты, регламентировавшие деятельность корпораций благородного сословия России, сводились исключительно к лишению их былой пышности и блеска, превращая их деятельность в рутинное делопроизводство. Возможно, подобная практика объясняется тягой императора к всеобщей экономии, порядку и контролю. Кроме того, ученые конца 1990-х-начала 2000-х гг. сошлись во мнении, что Манифест 5 апреля 1797 года, принятый в день коронации Павла I, был инициирован им исключительно по личным политическим мотивам. Однако историки упустили из вида, что момент издания Манифеста по времени совпал со всплеском недовольства крестьян. Если проанализировать последующее законодательство, касающееся частновладельческих крестьян, то можно отметить уменьшение мер, регулирующих положение крепостных, на фоне затухания волнений. После подавления антифеодальных выступлений законотворчество в отношении основной массы населения страны и вовсе прекратилось. Вряд ли Павел I, стремившийся регламентировать все стороны управления, оставил бы столь важный для страны вопрос без внимания, если бы в действительности намеревался улучшить положение помещичьих крестьян.
На четвертом этапе историографии сословной политики Павла I усилился интерес исследователей к изучению роли самодержца в условиях социальнополитической ситуации в России на рубеже XVIII-XIX веков. Историк Ю.А. Сорокин считает неправомерным противопоставление “консервативной” политики Павла I “либеральной” политике Екатерины II [36]. Вместе с тем исследовательница Л.П. Костыря охарактеризовала правление монарха как поворот к консерватизму, отходу от реформаторской деятельности Романовых XVII-XVIII столетий. Она пришла к выводу, что при сыне Екатерины Великой была продолжена «консервативная политика государей, приобретающая порой крайние формы реакции. Формируется и терпит крах консервативная программа-утопия, автором которой был Павел I» [37, 38]. Не согласна с позитивной оценкой общественнополитических взглядов императора и историк либеральной идеологии России XVIII-XIX вв. Н. В. Михайлова. По ее мнению, деспотизм Павла I, сменивший либеральный курс Екатерины II в отношении дворянства, способствовал консолидации реформаторских сил и привел к возникновению своеобразной “либеральной партии” [39]. Постепенно в историографии сложилось мнение о продуманности и логичности реформаторской деятельности Павла I с целью улучшения ситуации в стране, но в силу особенностей характера монарха, его неумения понять конкретноисторические условия России на практике благие намерения самодержца обернулись крахом. Наиболее полно этот вывод обоснован в вышедшей относительно недавно книге Коршуновой Н.В. [40]. Исследовательница доказала, что наличие продуманной программы реформ до вступления Павла I на царство и легитимность получения власти наследником престола не стали основой для беспроблемного управления страной. Именно личностные качества монарха, подрывавшие положение дворянства, привели к протесту политической элиты против верховной власти. У монарха, по мнению исследовательницы, не хватило мудрости создать социальную опору, каковой было служилое дворянство для Петра I и Екатерины II. Поэтому столь легко и технично был осуществлён заговор. Н.В. Коршунова определяет его как “консервативную революцию”. Но убийство Павла I легло бременем на после- дующую историю императорского рода. Нежелание власти реагировать на реформаторские настроения общества и запрет конструктивной критики привели к тому, что даже самые умеренные оппозиционеры превратились в ярых врагов власти [40, с. 140-141.].
Таким образом, на первом этапе советской историографии социальной политики Павла I (1920-е – 1940-е гг.) преобладающим стало мнение об объективной закономерности внутренней политики самодержавия на рубеже XVIII-XIX веков. На втором этапе развития исторической литературы (1950-е – середина 1980-х гг.) утвердился вывод о том, что власти стремились приспособить существующий феодально-крепостной строй к новым условиям – разложению крепостных порядков и расширению капиталистического уклада. Однако действия Павла I, направленные на сохранение особого статуса дворянства в социальной структуре общества и отдельные меры, регулирующие положение крестьян, на практике привели к укреплению полицейского государства. Серьезным недостатком историографии стало то, что авторы научных трудов не уделили должного внимания изучению взглядов монарха, без анализа которых невозможно объективно оценить российскую социальную политику в конце XVIII-начале XIX веков. Поэтому на третьем этапе изучения сословной политики Павла I (середина 1980х – 1990-е гг.) был сделан акцент на анализе объективного фактора и его влияния на внутреннюю политику самодержавия. Ученые исследовали роль императора в выработке социально-политического курса страны. В исторической науке сложилось представление о логичности и продуманности мер Павла I, об обусловленности его действий ходом развития страны. В литературе утвердилась точка зрения, что правление Павла I представляло собой за- ранее продуманную консервативную систему мер, направленную на сохранение абсолютизма и крепостничества в России в новых социально-экономических условиях (разложения феодального хозяйства). На четвертом этапе отечественной историографии (середина 1980-х-2000-е гг.) историки пришли к заключению, что правление Павла I стало попыткой воплощения в жизнь политической программы, выработанной цесаревичем задолго до вступления на престол, а его внутренняя политика определялась особенностями развития страны на рубеже XVIII-XIX веков. Некоторые исследователи охарактеризовали социальные меры Павла I как консервативные, другие – отметили положительные изменения в пользу основной массы населения – частновладельческих крестьян. Сделав очередной виток, историография павловского времени вновь оказалась на распутье. В исторической литературе возник вопрос: Павел I – консерватор или реформатор? Иными словами, самодержец стремился к укреплению полицейского государства, созданного предками, или же намеревался осуществить поворот к улучше- нию положения крестьянства и сокращению привилегий дворянства? Получить ответ можно только после кропотливого изучения краткого, но бурного правления, опираясь на весь комплекс источников. Анализ павловского царствования в современной историографии высветил проблемы и перспективы освещения взаимоотношений основных социальных составляющих системы абсолютизма на рубеже XVIII-XIX веков.
Список литературы Социальная политика абсолютизма на рубеже XVIIII-XIX вв. в призме советской и современной историографии
- Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке: в 2 ч. Изд-е 5-е. М.: Учпедгиз, 1934. Ч. 2. 259 с.
- Фирсов Н. Н. Исторические характеристики и эскизы. 1890-1920: в 3 т. Казань: Гос. изд-во. Казанское отд., 1921. Т. 1. 308 с.
- Брюллова-Шаскольская Н. В. Отклики Пугачевщины. Крестьянское движение при Павле I. М.: Изд-во политкаторжан, 1932. 45 с.
- Дружинин М. Н. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева: в 2 т. М. -Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1946. Т. 1. 636 с.
- Самойлов В. И. Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801): Учеб. пособие. Пос. Хлебниково: Тип. ВПИ СА, 1947. 30 с.