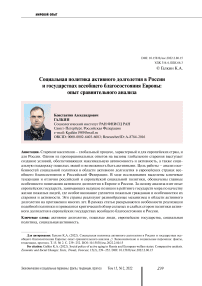Социальная политика активного долголетия в России и государствах всеобщего благосостояния Европы: опыт сравнительного анализа
Автор: Галкин Константин Александрович
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Мировой опыт
Статья в выпуске: 2 т.15, 2022 года.
Бесплатный доступ
Старение населения - глобальный процесс, характерный и для европейских стран, и для России. Одним из пропорциональных ответов на вызовы глобального старения выступает создание условий, обеспечивающих максимальную автономность и активность, а также социальную поддержку пожилых людей и возможность быть активными. Цель работы - анализ особенностей социальной политики в области активного долголетия в европейских странах всеобщего благосостояния и Российской Федерации. В ходе исследования вьщелены ключевые тенденции и отличия российской и европейской социальной политики, обозначены главные особенности понимания активного долголетия в Европе и России. За основу анализа взят опыт европейских государств, занимающих ведущие позиции в рейтинге государств мира по качеству жизни пожилых людей, где особое внимание уделяется пожилым гражданам и особенностям их старения и активности. Эти страны реализуют разнообразные механизмы в области активного долголетия на протяжении многих лет. В рамках статьи раскрываются особенности реализации подобной политики и приводится критический обзор сильных и слабых сторон политики активного долголетия в европейских государствах всеобщего благосостояния и России.
Активное долголетие, пожилые люди, европейские государства, социальная политика, социальная активность
Короткий адрес: https://sciup.org/147237369
IDR: 147237369 | УДК: 316.4
Текст научной статьи Социальная политика активного долголетия в России и государствах всеобщего благосостояния Европы: опыт сравнительного анализа
Увеличение числа пожилых людей в общей численности населения стран называется демографическим старением. Оно связано с изменениями возрастной структуры и характера воспроизводства населения. В европейском регионе на сегодняшний день сохраняются тенденции старения населения и роста численности пожилых людей старше 60 лет (Golini, 1997; Reynaud, Miccoli, 2019). На подобную тенденцию влияет общее снижение рождаемости населения и повышение продолжительности жизни (Popova, Navicke, 2019; Sobotka, 2004). Так, к 2050 году больше четверти европейского населения будут составлять пожилые люди в возрасте 65 лет и выше1. При этом, несмотря на неравномерные показатели роста их количества в Европе, предполагается, что число пожилых людей будет увеличиваться даже в регионах со сравнительно небольшой продолжительностью жизни, например в странах Центральной и Восточной Европы (Botev, 2012; Kashnitsky et al., 2020). Безусловно, растущая численность пожилых людей требует создания специальных норм и принципов, которые отображаются в европейской социальной политике, а также закреплены в различных национальных актах и национальных политиках стран Европы.
Рост числа пожилых людей характерен и для России. Снижение рождаемости наряду с увеличением в регионах количества граждан старше 65 лет происходит во всех субъектах страны. Разумеется, такая ситуация требует новых мер, закреплённых в социальной политике (Кузнецов, Сафронова, 2018; Бухер, 2016). При этом существуют отличия в развитии концепций социальной политики в европейских странах и России. Общим трендом выступает ориентир на здоровое старение, здоровый образ жизни, организацию досуга и комфортного проживания, реализацию планов пожилых людей и продление их трудовой деятельности (Григорьева, Богданова, 2020). Именно эти пункты становятся важнейшими аспектами в социальной политике государств2.
Концепция здорового старения, определённая ВОЗ ООН, основана на понятиях «индивидуальная жизнеспособность» и «функциональная жизнеспособность». Данные показатели дают возможность соотнести два ключевых параметра, на которых основывается активность пожилого человека, а именно здоровье и функционирование. Первый показатель связан с совокупностью всех физических и психических состояний пожилых людей, которые они могут использовать в любые моменты времени, для того чтобы быть более активными3. Второй показатель – условия, в рамках которых происходит старение пожилых людей, относится к среде, взаимодействиям и общению в ней, а также к особенностям социальной политики в стране, где проходит жизнь пожилых людей.
Таким образом, активность и «функциональная жизнеспособность»4, которая выступает важным параметром при определении и разработке политики активного долголетия, понимается, с точки зрения ВОЗ, в первую очередь как здоровое старение, связанное с физическими и психологическими факторами и вписанное в определённую среду5. В Европе государства – члены ВОЗ с 1980-х годов обращали внимание на то, что в деятельности регионального бюро организации особая роль должна быть отведена именно здоровому старению (Воробьев, Короткова, 2016). Здоровое старение как важная отправная точка к активному долголетию стала задачей Европейской стратегии «Здоровье для всех в XXI веке», принятой в 1998 году6. В рамках ряда резолюций, принятых ВОЗ, рассматривались последовательные шаги для достижения целей активного долголетия и здоровья пожилых людей в Европе. Отправной точкой легитимации и начала реализации политики активного долголетия послужил принятый в 2002 году в Испании Мадридский план действий, посвящённый проблеме старения и вопросам активности пожилых людей, поддержания активностей в пожилом возрасте. Вклад ВОЗ при этом состоял в разработке документа под названием «Содействие активной старости: основы политики», который призывал правительства государств при проектировании социальной политики учитывать потребности пожилых людей и создавать для них необходимые условия: функциональную жизнеспособность и комфортную среду для активного старения7.
Ключевой особенностью Мадридского плана как главного программного документа, в рамках которого зафиксированы принципы активного долголетия, выступает резкий поворот от старости, свободной от обязательств и трудовой деятельности, к старости, где важная роль отводится участию на рынке труда и равному доступу (включению) пожилых людей в практики потребления. Это, безусловно, делает Мадридский план неолиберальным проектом старения, направленным на переосмысление возраста, в первую очередь исходя из неолиберальных ценностей. Ключевые изменения, ознаменованные Мадридским планом, заключаются в отказе от рассмотрения биологизиро-ванного и медикализированного понимания старения как времени обязательного угасания и утрачиваемой с возрастом трудоспособности. Важными аспектами остаются поддержание физического здоровья, ориентир на здоровое старение и реализацию медицинских мер. Ключевые принципы данной стратегии используются в рамках реализации социальных политик европейских государств, а также развития социальной политики в контексте здоровья пожилых людей и принятия необходимых мер по поддержанию здоровья и осуществлению диспансеризации.
Одной из серьёзных проблем концепции активного долголетия выступает проблема институционализации, а именно вопросы, связанные с ориентиром на проведение социальной по- литики «сверху вниз» и ответственностью государства, государственных институтов за реализацию политики активного долголетия. Как отмечено в исследованиях, нередко меры государственной политики, реализуемые «сверху вниз», оказываются неэффективными (Ney, 2004; Aspalter, 2021). Например, проблема институционализации европейской политики активного долголетия создаёт сложности с развитием локальных и индивидуальных инициатив, которые реализуются пожилыми людьми и некоммерческими организациями (НКО).
Таким образом, европейская политика активного долголетия, и в особенности институционализация европейской политики активного долголетия, — тема, которая сейчас активно обсуждается. Поиск альтернативных моделей заключается в анализе научных концепций и рассмотрении возможностей развития активностей пожилых людей.
На сегодняшний день, анализируя европейскую политику активного долголетия, возможно обозначить два ключевых момента, которые возникают при введении и реализации различных мер. Первый связан с институциональными особенностями и характером политики активного долголетия, ориентированным на неолиберальный дискурс; второй обусловлен локальным характером и важностью применения фокусированной, индивидуальной оптики к рассмотрению и анализу различных аспектов и возможностей реализации политики активного долголетия.
В статье поставлена цель провести сравнительный анализ социальной политики активного долголетия в государствах всеобщего благосостояния Европы и в России и рассмотреть перспективы развития концепции политики активного долголетия исходя из особенностей представлений об активном долголетии в рассматриваемых странах.
Осуществление сравнительного анализа политики активного долголетия в государствах всеобщего благосостояния Европы и в России позволяет выявить её преимущества и проблемы, наметить возможные варианты ее совершенствования, следовательно, обладает выраженной значимостью для развития не только данной отрасли знаний, но и концептуальных подходов к построению политики активного долголетия на национальном уровне.
Научная новизна исследования заключается в сравнении особенностей социальной политики активного долголетия в странах, имеющих разный опыт социальной политики в отношении пожилых людей, а также во многом различающихся принципов социальной политики. Такое сравнение позволяет определить и наметить перспективы развития политики активного долголетия с учётом различных факторов и особенностей стран, что, безусловно, ценно как при планировании дальнейших исследований по социальной политике активного долголетия, так и при рассмотрении практических особенностей реализации политики активного долголетия в государствах всеобщего благосостояния и России.
В ходе работы были реализованы следующие задачи:
– рассмотрены особенности политики активного долголетия в европейских государствах всеобщего благосостояния и в России;
– проанализированы проблемы реализации политики активного долголетия и перспективы их решения в европейских государствах всеобщего благосостояния и в России.
Эмпирической базой выступают исследования по социологии и социальной политике, а также различные нормативные акты и программы, касающиеся политики активного долголетия, в европейских странах и России. Выбор государств всеобщего благосостояния Европы обусловлен тем, что именно в европейских странах возникли и развивались идеи активного долголетия. В этом смысле европейские страны могут выступать эталоном для сравнения особенностей в рамках мер социальной политики активного долголетия. Другим немаловажным аспектом выступает относительная географическая близость европейских государств всеобщего благосостояния к России, следовательно, политика активного долголетия в России ориентируется на эталонные стандарты в этой сфере, присущие странам Европы. Также при выборе стран учитывались отличия: так, социальная политика в странах всеобщего благосостояния Европы представляет собой наиболее сформированную и слаженную систему, в то время как российская социальная политика является наследницей советской социальной политики, элемент плановости и роль государства по-прежнему остаются в ней весомыми.
Это делает важным и релевантным сравнение активного долголетия как новой, возникающей ветви социальной политики в России со сформированной системой политики активного долголетия в европейских государствах всеобщего благосостояния.
Политика активного долголетия в государствах всеобщего благосостояния Северной Европы
За последние десятилетия европейские страны всеобщего благосостояния стали государствами с довольно сложными политическими системами, включающими в себя множественные риски. Однако одной из отличительных особенностей государств всеобщего благосостояния выступает ориентир на институциональный контекст развития социальной политики (Clegg, 2018; Johnson, 2005; Taylor-Gooby, 2004). Исключением не являются и меры социальной политики, которые принимаются в этих странах относительно активного долголетия. Институциональные структуры государств всеобщего благосостояния не только формируют повестку социальной политики, но определяют участников и тех, кто может участвовать и кого можно привлечь к разработке социальной политики. При этом именно институциональные рамки ограничивают сферу применения социальной политики и способствуют централизованному контролю над вводимыми мерами политики активного долголетия (Walker, Maltby, 2012; De Vroom, Overbye, 2017). Пути реализации институционального контекста политики активного долголетия отличаются. Северные государства всеобщего благосостояния традиционно ориентированы на различные льготы для пожилых людей, медицинскую помощь и диспансеризацию, а также на «возвращение» пожилых людей на рынки труда и развитие их активного участия в трудовой деятельности. Качество оказываемых социальных услуг в северных странах подразумевает, что не все пожилые могут получать льготы в течение продолжительного времени, следовательно, важным фактором становится их привлечение в трудовую сферу. Таким образом, социальная политика северных государств сосредоточена на интеграции пожилых в социальную жизнь8.
Ключевые компоненты этой политической стратегии определены созданием институционального потенциала для реализации политики активного долголетия, то есть формированием различных государственных и негосударственных организаций и программ, координирующих политику, и развитием индивидуального потенциала пожилых людей (обучение, переобучение, карьерные консультации и консультации по выбору или смене профессии и сферы деятельности). Основной идеей социальной политики стран Северной Европы выступает активизация ресурсов пожилых людей и их включение в трудовую деятельность. Это связано с тем, что неактивные и не участвующие в трудовой деятельности пожилые работники создают трудности для экономики, вызванные необходимостью платить пенсии и многочисленные пособия (Casado-Dfaz et al., 2004; Walker, 2005). Партнёры, государственные и негосударственные организации не только участвуют во всех этапах принятия решений, но и интенсивно сотрудничают с различными министерствами, например министерством труда, министерством здравоохранения, развивают программы, наиболее комфортные и адаптивные для нужд пожилых людей. Программы по трудоустройству пожилых людей в странах Северной Европы пользуются весомой исследовательской поддержкой, осуществляется мониторинг оценки эффективности программы и применяемых мер (Gould, Saurama, 2017).
Политика активного долголетия в странах Северной Европы сосредоточена вокруг интеграции пожилых людей на рынок труда и формирования их профессиональных навыков, а также развития различных специализированных программ, способствующих трудоустройству пожилых людей (Esping-Andersen, 1990; Gould, Saurama, 2017). Относительно политики активностей и физического здоровья в странах Северной Европы действуют программы, институционально связанные с государством и развивающиеся «сверху вниз». Подобные программы мотивируют большое число пожилых людей к выполнению упражнений и различной физической активности, однако одной из проблем выступает их сравнительно незначительный региональный и локальный охват. К примеру, реализуемая национальным прави- тельством Финляндии с 2005 года программа по активному образу жизни среди пожилых людей на сегодняшний день пользуется довольно высоким рейтингом. Оценка результатов программы, реализуемой в 13 пилотных регионах Финляндии, выявила трёхкратное увеличение числа пожилых, регулярно посещающих мероприятия, связанные с физической активностью (Karvinen et al., 2014; Колосницина, Хоркина, 2016). При этом специфика программы ориентирована именно на неолиберальное понимание возраста и рассмотрение государства как агента, создающего специальные комфортные условия для пожилых. Подобная программа способствует долголетию пожилых людей, а также их развитию, вовлечению в различные активности. Занимаясь спортом, пожилые люди вовлекаются в общение, тем самым преодолевают эксклюзию.
Особенности политики активного долголетия в государствах всеобщего благосостояния в континентальной Европе
В континентальной Европе учреждения социального страхования позиционируют старение как вопрос, связанный с обеспечением политики финансовой устойчивости для пожилых людей. Одной из мер стимулирования пожилых людей к занятости выступают законодательные инициативы по повышению пенсионного возраста. Во Франции, Австрии и Германии активно применяются корректировки и изменения в периодах трудоспособности (Hausermann, 2010; Ebbinghaus, 2006). В Германии и Польше изменения в пенсионных системах привели к переходу от системы пенсий с установленными выплатами к системе с установленными взносами и повышению страховой части пенсии, в которую вкладываются сами пожилые люди. Также одной из особенностей социальной политики континентальных стран Европы выступает стимулирование частичного выхода на пенсию. Подобная политика применяется в Австрии, где концепция частичного выхода на пенсию используется работодателями для стимулирования занятости и найма пожилых людей (Ney, 2004).
Особенность социальной политики в сфере активного долголетия либеральных государств – это ориентир на трудоустройство и переобучение по специальным программам, связанным с интеграцией пожилых на рынки труда9 (Zaidi et al., 2017). Дебаты относительно социальной политики в сфере активного долголетия в либеральных государствах всеобщего благосостояния строятся вокруг обсуждения возрастной дискриминации, а именно обсуждения физических, психологических и возрастных барьеров, которые создают пожилым людям препятствия для участия в социальной жизни, интеграции в социум. Активное долголетие в таком случае становится институциональным проектом по устранению барьеров для интеграции пожилых людей на рынки труда, для развития их потенциала.
Например, политика Великобритании сосредоточена на расширении и развитии прав пожилых людей, привлечении пожилых на рынки труда. Чтобы обеспечить им свободный доступ к занятости, власти Великобритании используют инструменты прямой политики, направленные на минимизацию и сокращение препятствий для пожилых работников в трудоустройстве. Также в Великобритании применяются инструменты саморегулирования социальной политики: фирмы, сообщества и отдельные локации-регионы создают свои кодексы и своё законодательство, ориентированное на наём пожилых работников (Walker, 2018). В плане физической активности ориентир государств всеобщего благосостояния континентальной Европы сосредоточен вокруг создания государственных программ физической активности для пожилых людей и формирования для них комфортной среды10.
Таким образом, ключевые меры социальной политики активного долголетия в государствах всеобщего благосостояния континентальной Европы ориентированы на возвращение пожилых работников на рынки труда, создание различных институциональных условий для развития и расширения возможностей интеграции на рынки труда пожилых сотрудников. Социальная политика активного долголетия в государствах всеобщего благосостояния развивается преимущественно по принципам неолибераль- ного подхода к старению, когда активности, в частности трудовая, становятся основой для интеграции пожилых людей в социум.
Особенности и дилеммы европейской политики активного долголетия
Одной из главных проблем для европейских государств всеобщего благосостояния выступает институциональный взгляд на политику активного долголетия, а также проблемы отсутствия возможных путей решения и изменения, отхода от институционального фокуса политики активного долголетия (Walker, 2018). Как отмечают исследователи, европейские политики, одержимые соотношением иждивенцев, ростом взносов на социальное страхование или увеличением расходов на здравоохранение, забывают реальную проблему, а именно «уровень экономической активности и, в частности, безработицу среди пожилых людей» (Walker, 2002; Walker, Maltby, 2012). Однако для решения этой проблемы потребуется обратиться к социальным проблемам, присутствующим в европейской политике, и учесть особенности социальных проблем, таких как эйджизм, неравенство и социальная изоляция.
Таким образом, эйджизм и дискриминация по возрасту в широком спектре социальных сфер являются основной причиной проблем, связанных с демографическим старением в государствах всеобщего благосостояния. При этом существует расслоение между мигрантским пожилым населением и коренными европейцами. Также есть отличия, которые можно рассматривать относительно бедности пожилых людей в зависимости от различных локаций и различных стран. На европейских рынках труда практика трудоустройства и профессиональной подготовки на уровне фирм гарантирует, что пожилые работники с большей вероятностью будут сокращены и, став безработными, с меньшей вероятностью вернутся на рынок труда11 (Walker, 2002). Несмотря на структурные различия, все европейские государства всеобщего благосостояния усугубляют возрастные барьеры. Из-за повышения пенсионного возраста, поощрения раннего выхода на пенсию и санкционирования любой занятости во время вы- хода на пенсию возникает институциональная дилемма, связанная с тем, что пенсионные системы в странах всеобщего благосостояния сначала приводят пожилых людей к бездействию, а затем институционально создают условия и специальные программы, через регулирование пенсионных выплат (Walker, 2018).
В секторе здравоохранения реализуемая на сегодняшний день институциональная политика европейских государств, по сути, определяет важность не профилактики, а лечения заболеваний у пожилых людей, что создаёт дополнительные затраты на лечение (Walker, 2018). Также стоимость лечения пожилых людей в европейских странах постоянно возрастает, и причиной подобного роста является, в том числе, отсутствие профилактических мероприятий и медицины, ориентированной на диспансеризацию и профилактику.
Ещё одним проблемным аспектом европейской политики активного долголетия выступает отсутствие политической активности и политической вовлечённости граждан. Исследователи отмечают отсутствие реального политического влияния пожилых граждан, а также реальных инициатив пожилых (Walker, 2018). При этом вовлечение пожилых людей в политическую активность является важным маркером создания активностей, а также способствует деинституционализации политики и созданию различных возможных инициатив по совершенствованию политики для пожилых людей.
По мнению исследователей, важно развивать новые подходы в понимании и определении старения, необходимо прекратить рассматривать возраст исключительно с позиций государства всеобщего благосостояния (Walker, 2018; Boudiny, 2013; Stenner et al., 2011). Речь идёт о создании институциональных, комфортных условий для пожилых людей, но при этом налицо отсутствие альтернатив, рефлексии относительно того, насколько возможна реализация различных видов активностей для пожилых людей, и прекращения привязанности активности исключительно к позициям занятости и медицины, поддержания здоровья. Таким образом, основной особенностью европейской политики активного долголетия должен стать планомерный переход от государства всеобщего благосостояния и институционализации ак- тивностей, применяемых мер в отношении старения к пониманию и рассмотрению процесса старения с позиций многомерности особенностей возраста и критическому осмыслению различных потребностей пожилых людей.
Исследователи отмечают, что координационный центр разработки новых мер и способов реализации политики активного долголетия для пожилых людей должен быть смещён с национального и институционального уровня на уровень локальный и муниципальный (Foster et al., 2015; Schulmann et al., 2019; Leichsenring, 2020). Также подчёркивается особая значимость и роль местных муниципалитетов и НКО в контексте реализации политики активного долголетия. Следует обозначить центральные проблемные темы, связанные с модернизацией европейской политики активного долголетия:
– преодоление эйджизма в трудовой сфере; развитие в будущем нескольких источников дохода для пожилых людей, различных видов и типов занятости, а также совмещение различных работ, самостоятельный выбор работ;
– создание новых пенсионных механизмов, поощряющих возможности для трудоустройства и работы неполный рабочий день, развитие подобных пенсионных механизмов; снижение налогов при выходе на пенсию, отказ от обязательной мотивирующей политики поиска рабочих мест при выходе на пенсию и обязательного продолжения занятости для пожилых людей;
– развитие системы диспансеризации, ориентир на предотвращение невирусных заболеваний среди пожилых людей, выявление заболеваний на ранних стадиях, последовательная профилактика. Для того чтобы избежать стремительного роста расходов на здравоохранение в будущем, необходимо разорвать связь между плохим здоровьем и занятостью (Walker, 2002). Европейские системы здравоохранения в государствах всеобщего благосостояния должны предотвращать плохое здоровье, а не лечить болезни с большими затратами. Кроме того, необходимы активность и участие общества в жизни немощных людей, требующих эффективного долгосрочного ухода, число которых значительно возрастет в ближайшие десятилетия;
– развитие гражданства пожилых людей: возможность развития новой концепции, которая заключается в том, что активность пожилых людей не создаётся институционально через развитие государственной политики активного долголетия и развитие активного участия, в том числе в политической жизни (Walker, 2002; Walker, 2018). Важным выступает критическое осмысление и понимание возраста, и в целом для политики гражданства важны участие самих пожилых людей и локальный уровень, создание благоприятной и комфортной среды (Del Barrio et al., 2018; Eggers et al., 2019).
Политика активного долголетия в России
Государственная политика и социальные программы для поддержки старших возрастных групп в России до недавнего времени были в основном ориентированы на решение задач медицинского обеспечения и проблем, связанных с естественным старением населения. Была создана государственная гериатрическая служба, одна из задач которой – создание и развитие сети гериатрических госпиталей и больниц, а также системы реабилитационных учреждений для пожилых людей (Шабалин, 2009).
В работу гериатрической помощи в России включена как стационарная помощь старшим возрастным группам, так и помощь на дому. Однако аспект здоровья пожилых в данном случае выходит на первый план, и в рамках деятельности службы отсутствует возможность оказания пожилым людям психологической и медицинской поддержки (Егоров, 2007).
Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года акцентирует внимание на необходимости специальных мер для пожилых людей, а также на внедрении и развитии специальной политики. В тексте говорится о важности достижения к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни в 75 лет и принятии мер, направленных на поддержание и развитие политики активного долголетия в России. Среди мер, которые указываются в тексте документа, также приводится необходимость создания специальных гериатрических центров, развитие активного долголетия и инклюзии пожилых людей в социум12.
В сфере трудовой деятельности граждан в Российской Федерации в настоящее время существует множество препятствий, среди которых – отсутствие заинтересованности у работодателей в пожилых работниках, дискриминация пожилых людей по возрасту на рынке труда. В исследованиях, посвященных изучению особенностей поведения пожилых людей на рынке труда, отмечается, что наиболее толерантны к пожилым людям старшего возраста частный сектор, консервативные сферы занятости, а также бюджетный сектор, в том числе медицина, образование и наука (Сизова, Орлова, 2021; Смолькин, 2014). В то же время представители коммерческого сектора в большей степени склоны рассматривать пожилых людей в качестве специалистов, которые выполняют низкоквалифицированные задачи: охранников, уборщиков и представителей сферы коммерци-онализированного ухода.
В отечественной науке, преимущественно в исследованиях по социальной политике, на данном этапе появляются работы, которые строятся главным образом на анализе активного долголетия в России и специфики социальной политики активного долголетия. При этом ключевая роль в обеспечении условий для активного долголетия в России и создания специальных мер в рамках социальной политики отводится государству. Российские исследователи активного долголетия отмечают, что именно государство должно обеспечивать и стимулировать максимальное включение и интеграцию пожилых людей в активную жизнь, через здравоохранение и профилактику лечения заболеваний стимулировать здоровый и активный образ жизни, максимальное включение пожилых людей в социальную жизнь и минимизацию бедности и социальной эксклюзии пожилых13 (Григорьева, Богданова, 2020; Черешнев, Чистова, 2017; Косьмина, Косьмин, 2016; Доброхлеб, 2012). Такой подход переносит задачи государства на адресную помощь пожилым людям, которые подвергаются проблемам эксклюзии и испытывают различные трудности, и их активное включение в социальную жизнь.
Как отмечают российские исследователи активного долголетия, в России важным при планировании социальной политики в сфере активного долголетия выступает именно планирование необходимой инфраструктуры, в частности создание комфортной и удобной медицинской инфраструктуры и условий для активного долголетия с точки зрения поддержания необходимого уровня здоровья. При этом такие меры, как интеграция пожилых людей на рынок труда и продолжение занятости, как правило, не учитываются в рамках социальной политики активного долголетия (Григорьева, Богданова, 2020; Евсеева, Язова, 2020; Кустова и др., 2021; Барсуков, 2016; Калачикова и др., 2016).
Другая группа российских исследователей рассматривает особенности активного долголетия с точки зрения социологических аспектов и социальной эксклюзии пожилых людей. В таких качественных социологических исследованиях особая роль отводится изучению проблем бедности пожилых людей, анализу необходимости продолжения трудовой деятельности из-за невозможности обеспечить себя на пенсию, а также рассмотрению особой роли семьи, которая часто выступает единственной альтернативой в обеспечении необходимых активностей для пожилых людей (Ткач и др., 2012; Смолькин, 2014; Темаев, Мельникова, 2010). В этих работах ключевым фокусом выступают всевозможные неравенства, в том числе городские и сельские неравенства, которые ограничивают возможности пожилых людей, их доступ к различным активностям и инфраструктуре.
Ещё одна группа исследований рассматривает активное долголетие в России с позиций переноса (или подмены) понятия «активное долголетие» на «здоровое старение», в связи с чем возникают дебаты вокруг изучения проблематики активного долголетия в контексте именно различных медицинских и оздоровительных мер. Активное долголетие с такой точки зрения понимается преимущественно как сохранение, поддержание здоровья пожилых людей, при этом возможность самих активностей пожилых людей видится в наличии хорошего уровня здоровья (Шабалин, 2009; Перво-ва, Келасьев, 2017). Эти работы в большинстве своём представлены медицинскими исследова- ниями и анализируют специфику и возможности здорового старения пожилых людей с учётом развития медицины в России.
Таким образом, при анализе отечественного опыта рассмотрения особенностей активного долголетия следует отметить, что в исследованиях, посвящённых теме активного долголетия в России, внимание уделяется преимущественно аспектам социальной политики, изучению особенностей социальной политики активного долголетия. Также немаловажным выступает рассмотрение медицинских особенностей активного долголетия, а вот социологический аспект в подобных работах представлен и обозначен довольно слабо. Следует отметить, что внимание уделяется, главным образом, институциональным и процессуальным аспектам активного долголетия, анализу законодательных актов и выработке необходимых решений по совершенствованию социальной политики в сфере активного долголетия.
Важным концептуальным документом выступает «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации». Пожилые люди в России определены в стратегии «старшим поколением» «без привычных рассуждений об их нужде и слабости»14. Пожилой возраст (в Стратегии – с 60 лет) становится хронологическим состоянием, но не медицинским определением, связанным с телесной немощностью и плохим самочувствием. При этом, согласно пенсионной реформе, подобная возрастная граница отодвинется в России к 2028 году, что противоречит принятой в стратегии возрастной границе в 60 лет. Также существует и ряд противоречий Стратегии с другими документами.
Основной идеей Стратегии в интересах граждан пожилого возраста выступает их активная интеграция в трудовую деятельность. Именно проблематика трудовой деятельности в отношении пожилых людей видится наиболее сложной для создания их активностей. Согласно тексту документа, основными и важными пунктами являются вовлечение пожилых людей в общественную и трудовую деятельность, развитие активной интеграции в трудовую деятельность. В связи с этим одной из актуальных форм активности, обозначенной в тексте, становится волонтёрство. Волонтёрские практики могут позволить пожилым людям участвовать в общественной деятельности и активно включаться в коммуникацию и взаимодействия15.
Основной целью национального проекта «Демография» выступает увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения до 67 лет16.
В рамках национального проекта «Демография» отмечены ключевые критерии развития пожилых людей в России: (1) снижение смертности населения старшего трудоспособного возраста до 361 человека на 10 тысяч человек населения соответствующего возраста; (2) повышение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55,0%17. При этом остаётся неясным, как данные показатели могут быть достигнуты, а в текстах обоих документов не говорится об измерениях показателей и возможностях их достижения. Скорее, эти показатели приводятся просто как цели для достижения и измерения эффективности принятых стратегий.
За увеличение качества жизни в рамках национального проекта «Демография» отвечает входящий в него федеральный проект «Старшее поколение», задачами которого выступают разработка и реализация программы и специальных мер поддержки по качеству жизни пожилых людей в России18. Ключевым параметром, призванным показать эффективность проекта «Старшее поколение», является расчет средней продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ). Особенность ОПЗЖ состоит в учете как объективных критериев состояния здоровья (параметров дожития), так и субъективных оценок (самооценок), что усиливает конкурентные преимущества данного показателя, обеспечивает его комплексность. Проблемой в реализации ОПЗЖ выступает его сравнительная функция, а именно невозможность сопоставления ОПЗЖ разных возрастов дожития (ОПЗЖ при рождении в сопоставлении с ОПЗЖ в возрасте 60 лет).
Другим проблемным аспектом в ходе реализации проекта «Старшее поколение» в России стала его институциональная перегруженность и, следовательно, ориентировка на институциональную поддержку пожилых людей, а также на необходимость разработки эффективных мер социальной политики для пожилых людей в работе всех институтов. Однако такая система во многом не рассматривает локальные и региональные инициативы по интеграции пожилых людей в активность и сохранение здоровья, не предусматривает создание таких инициатив снизу (самими пожилыми людьми) и в рамках различных локальных инициатив.
Слабой стороной проекта «Старшее поколение» выступает и отсутствие финансирования и развития системы долговременного ухода (СДУ), которая позволяет поддерживать здоровье пожилых людей в перспективе и обеспечивать необходимую социальную помощь для нуждающихся пожилых людей, их социальную поддержку. В европейские концепции активного долголетия достаточно давно интегрированы необходимые нормы по поддержанию системы долговременного ухода, а также необходимые условия для оказания социальной и психологической помощи пожилым людям. Несмотря на это, проект «Старшее поколение» открывает для развития пожилых людей множество перспектив, а также создаёт возможности для обеспечения активностей пожилых людей именно в контексте здоровья, для поддержания на основании здоровья активного долголетия. Следовательно, развитие этого проекта задаёт возможности для реализации целей активного долголетия в России.
Следует отметить, что за поддержание активности, в основном за поддержание здоровья, в России отвечает гериатрическая служба, целями которой выступают развитие медикосоциальной помощи пожилым людям, осуществление необходимого амбулаторного лечения (Шабалин, 2009). Территориальное распределение учреждений гериатрической службы довольно неравномерно: оно охватывает преимущественно крупные города и города федерального значения, но не сельскую местность и малые города, где медико-социальные проблемы пожилых людей часто остаются без внимания (Егоров, 2007). Гериатрическая служба России имеет не вполне удовлетворительную правовую базу, не располагает вертикальными управленческими связями. Также существуют сложности с профессией врача-гериатра, которая есть лишь в крупных медицинских учреждения и не включена в штатное расписание поликлиник и гериатрических центров (Ткачёва, 2016).
Все эти недостатки создают сложности и напряжение в медико-социальном обслуживании пожилых людей. Следует отметить, что, несмотря на разрозненность и отсутствие единой системы учреждений гериатрической службы, она имеет широкую сеть ведомственных учреждениях, которые обеспечивают работу преимущественно со старшими возрастными группами, поддерживая здоровье их представителей.
В Указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»19 указываются цели, ориентированные на развитие качества жизни пожилых людей и отказ от дискриминационной политики в их отношении: 1) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. – до 80 лет); 2) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.
Однако обозначенные в документах идеи не вносят ясности, как подобные показатели могут быть достигнуты, принимая во внимание то обстоятельство, что снижение смертности и здоровая жизнь есть высокоинерционные процессы. И одна из немаловажных проблем, которая не способствует достижению подобных показателей, — это нестабильность в сфере занятости, а также дискриминация в отношении пожилых людей, которая присутствует на рынке труда. Таким образом, остаётся не вполне понятным, несмотря на явную динамику, как будут достигнуты цели активного долголетия и включения пожилых людей в социальную жизнь в Российской Федерации.
Заключение
Резюмируя полученные результаты анализа документов и стратегий социальной политики европейских стран всеобщего благосостояния и Российской Федерации в области активного долголетия, следует отметить различия и сходства.
Социальная политика европейских государств всеобщего благосостояния связана с институциональным контекстом и важностью создания различных программ для реализации принципов активного долголетия, которые включают преимущественно два вектора политики: 1) развитие занятости пожилых людей, создание программ занятости для пожилых людей, развитие физической активности; 2) ориентир на здоровье и важность поддержания здоровья для пожилых людей. Политики активного долголетия и в европейских государствах всеобщего благосостояния, и в России имеют схожий характер, а именно превалирование идеи «сверху» и доминирование и создание различных концепций и специальных программ для пожилых людей. Однако данные программы не учитывают критический компонент и не способствуют осмыслению важности индивидуальных потребностей пожилых людей при реализации политики активного долголетия.
Отличия европейской политики от российской связаны с тем, что европейская политика в большей степени ориентирована на поиск пожилыми людьми занятости и развитие их гражданства, переход к критическому пониманию и осмыслению возраста, основанному на важности локальных представлений и взглядов пожилых людей на смыслы старения, а также на его особенности, которые встроены в локальную среду. Однако сквозным вопросом модернизации и развития политики активного долголетия в европейских государствах всеобщего благосостояния и России должен стать ориентир на индивидуальность и важность создания мер, спо собствующих активному вовлечению пожилых людей в политическую активность, формирования комфортной для них среды.
Таким образом, политика активного долголетия как в государствах всеобщего благосостояния в Европе, так и в России должна учитывать реальные проблемы пожилых людей, среди которых немаловажными выступают борьба с различными неравенствами, созданными институционально, и переход к индивидуальной доступности выбора пожилым человеком предпочтительной модели/моделей старения. Рас- смотренные в исследовании инициативы в сфере социальной политики активного долголетия свидетельствуют о том, что на данном этапе активное долголетие и в государствах всеобщего благосостояния, и в России входит в сферу активных трансформаций, которая во многом связана с переходом от неолиберального дискурса, отрицающего старение и стимулирующего создание различных государственных программ, формирущих возможности для пожилых людей, к критическому осмыслению необходимых потребностей пожилых людей.
Список литературы Социальная политика активного долголетия в России и государствах всеобщего благосостояния Европы: опыт сравнительного анализа
- Барсуков В.Н. (2016). Трудовая активность населения пенсионного возраста как фактор социально-экономического развития территории // Экономические и социальные перемены, факты, тенденции прогноз. № 1 (43). С. 195-213. DOI: 10.15838/esc/2016.1.43.13
- Бухер С. (2016). Современные тенденции старения населения России // Вестник Российской академии наук. Т. 86. № 3. С. 215-223. DOI: 10.7868/S0869587316030051
- Воробьев Р.В., Короткова А.В. (2016). Аналитический обзор проблемы здорового старения в странах Европейского региона ВОЗ и Российской Федерации // Социальные аспекты здоровья населения. Т. 51. № 5. С. 1-20. DOI: 10.21045/2071-5021-2016-51-5-3
- Григорьева И., Богданова Е. (2020). Концепция активного старения в Европе и России перед лицом пандемии COVID-19 // Laboratorium: журнал социальных исследований. № 2. С. 187-211. DOI: 10.25285/2078-1938-2020-12-2-187-211
- Доброхлеб В.Г. (2012). Активное долголетие как проблема современной молодёжи // Народонаселение. № 4 (58). С. 87-91.
- Евсеева Я.В., Ядова М.А. (2020). Успешное старение сквозь призму социальной геронтологии и социологии старения: предисловие // Успешное старение: Социологические и социогеронтологические концепции. С. 9-14.
- Егоров В.В. (2007). Гериатрическая служба России. Основные тенденции развития // Клиническая геронтология. Т. 13. № 3. С. 67-72.
- Калачикова О.Н., Барсуков В.Н., Короленко А.В., Шулепов Е.Б. (2016). Факторы активного долголетия: итоги обследования вологодских долгожителей // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 5. С. 76-94. DOI: 10.15838/esc/2016.5.47.4
- Колосницына М.Г., Хоркина Н.А. (2016). Государственная политика активного долголетия: о чем свидетельствует мировой опыт // Демографическое обозрение. T. 3. № 4. С. 27-42.
- Косьмина Е.А., Косьмин А.Д. (2016). О релевантной проблеме активного старения // Креативная экономика. Т. 10. № 5. С. 529-542. DOI: 10.18334/ce.10.5.35185
- Кузнецов В.В., Сафронова Л.Е. (2018). Народонаселение России: анализ состояния и стратегия развития // Ученые записки. № 2. С. 29-33.
- Кустова Н.А., Дмитриева И.С., Копылов С.И. (2021). Направления предотвращения исключения людей преклонного возраста из жизни социума // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. № 4-1. С. 116-120. DOI: 10.23672/r4575-9259-0553-b
- Первова И.Л., Келасьев В.Н. (2017). Пожилые и государство: специфика взаимоотношений в современной России на примере пожилых жителей Санкт-Петербурга // Успехи геронтологии. Т. 30. № 6. С. 794-801.
- Сизова И.Л., Орлова Н.С. (2021). Противоречия и напряженности в занятости лиц старших возрастов в современной России // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. № 1. С. 107-119. DOI: doi.org/10.33581/2521-6821-2021-1-107-119
- Смолькин А.А. (2014). Трудовой потенциал пожилых людей // Социологические исследования. № 5. С. 97-103.
- Темаев Т.В., Мельникова О.А. (2010). Роль семьи в социальной адаптации пожилого осужденного // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 13. № 2. С. 138—151.
- Ткачёва О.Н. (2016). Современная концепция развития гериатрической помощи в Российской Федерации // Вестник Росздравнадзора. № 4. С. 31—35.
- Черешнев В.А., Чистова Е.В. (2017). Выявление региональных особенностей старения населения России // Экономический анализ: теория и практика. Т. 16. № 12 (471). С. 2206—2223. DOI: 10.24891/ ea.16.12.2206
- Шабалин В.Н. (2009). Медико-социальные проблемы физиологического старения населения России // Альманах клинической медицины. № 21. С. 11—17.
- Шабалин В.Н., Шатохина С.Н. (2018). Влияние социальной среды на формирование психического здоровья пожилого человека // Ульяновский медико-биологический журнал. № 3. С. 124—132. DOI: 10.23648/UMBJ.2018.31.17223
- Aspalter C. (2021). Developmental Social Policy and Active Aging with High Quality of Life. Handbook of Active Ageing and Quality of Life. Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-58031-5_9
- Botev N. (2012). Population ageing in Central and Eastern Europe and its demographic and social context. European Journal of Ageing, 1, 69-79. DOI: 10.1007/s10433-012-0217-9
- Boudiny K. (2013). 'Active ageing': From empty rhetoric to effective policy tool. Ageing & Society, 6, 1077-1098. DOI: 10.1017/S0144686X1200030X
- Casado-Díaz M.A., Kaiser C., Warnes A.M. (2004). Northern European retired residents in nine southern European areas: Characteristics, motivations and adjustment. Ageing & Society, 3, 353-381. DOI: 10.1017/ S0144686X04001898
- Clegg D. (2018). Central European welfare states. In: Routledge Handbook of the Welfare State. Routledge.
- De Vroom B., 0verbye E. (2017). Ageing and the Transition to Retirement: A Comparative Analysis of European Welfare States. Taylor & Francis.
- Del Barrio E. et al. (2018). From active aging to active citizenship: The role of (age) friendliness. Social Sciences, 7, 134. DOI: 10.3390/socsci7080134
- Ebbinghaus B. (2006). Reforming Early Retirement in Europe, Japan and the USA. Oxford: Oxford University Press.
- Eggers T., Grages C., Pfau-Effinger B. (2019). Self-responsibility of the "active social citizen": Different types of the policy concept of "active social citizenship" in different types of welfare states. American Behavioral Scientist, 63(1), 43-64. DOI: 10.1177/0002764218816803
- Esping-Andersen G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.
- Golini A. (1997). Demographic Trends and Ageing in Europe. Prospects, Problems and Policies. Atlanta: Genus.
- Gould R., Saurama L. (2017). From early exit culture to the policy of active ageing: The case of Finland. In: Ageing and the Transition to Retirement. Routledge.
- Hausermann S. (2010). The Politics of Welfare State Reform in Continental Europe: Modernization in Hard Times. Cambridge: Cambridge University Press.
- Johnson A. (2005). European Welfare States and Supranational Governance of Social Policy. New York: Palgrave Macmillan.
- Kashnitsky I., De Beer J., Van Wissen L. (2020). Economic convergence in ageing Europe. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 111(1), 28-44. DOI: 10.1111/tesg.12357
- Leichsenring K. (2020). Applying ideal types in long-term care analysis. In: Ideal Types in Comparative Social Policy. Routledge.
- Popova D., Navicke J. (2019). The probability of poverty for mothers after childbirth and divorce in Europe: The role of social stratification and tax-benefit policies. Social Science Research, 78, 57-70. DOI: 10.1016/ j.ssresearch.2018.10.007
- Reynaud C., Miccoli S. (2019). Population ageing in Italy after the 2008 economic crisis: A demographic approach. Futures, 105, 17-26. DOI: 10.1016/j.futures.2018.07.011
- Schulmann K., Reichert M., Leichsenring K. (2019). Social support and long-term care for older people: The potential for social innovation and active ageing. In: The Future of Ageing in Europe. Singapore: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-981-13-1417-9_9
- Sobotka T. (2004). Is lowest-low fertility in Europe explained by the postponement of childbearing? Population and Development Review, 2, 195-220. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2004.010_1.x
- Stenner P., McFarquhar T., Bowling A. (2011). Older people and 'active ageing': Subjective aspects of ageing actively. Journal of Health Psychology, 16(3), 467-477. DOI: 10.1177/1359105310384298
- Taylor-Gooby P. (2004). New Risks, New Welfare: the Transformation of the European Welfare State. Oxford: Oxford University Press.
- Walker A. (2002). Strategy for active ageing. International Social Security Review, 55(1), 121-139. DOI: 10.1111/1468-246X.00118
- Walker A. (2005). The emergence of age management in Europe. International Journal of Organizational Behaviour, 10(1), 685-697.
- Walker A. (2018). Why the UK needs a social policy on ageing. Journal of Social Policy, 47(2), 253-273. DOI: 10.1017/S0047279417000320
- Walker A., Maltby T. (2012). Active ageing: A strategic policy solution to demographic ageing in the European Union. International Journal of Social Welfare, 21, 117-130. DOI: 10.1111/j.1468-2397.2012.00871.x
- Zaidi A. et al. (2017). Measuring active and healthy ageing in Europe. Journal of European Social Policy, 27(2), 138-157. DOI: 10.1177/0958928716676550