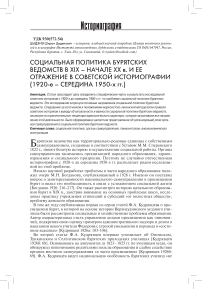Социальная политика бурятских ведомств в XIX – начале XX в. и ее отражение в советской историографии (1920-е – середина 1950-х гг.)
Автор: Ширап Цыденович Цыдэнэ
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья преследует цель определить специфические черты и результаты исследований советских историков с 1920-х до середины 1950-х гг. по проблеме социальной политики бурятских ведомств. Эти исследования затронули основные направления социальной политики бурятских ведомств. Следование за источником и положениями марксистско-ленинской методологии привели советских историков к выводу об актуальности и важности социальной политики бурятских ведомств, несмотря на ограничительные тенденции идеологического характера, которые затрагивали все направления этой деятельности. Было сформировано целостное представление об организующей роли органов самоуправления в социальной политике бурятских ведомств.
Социальная политика, органы самоуправления, панмонголизм, внеэкономическая эксплуатация
Короткий адрес: https://sciup.org/170174619
IDR: 170174619 | DOI: 10.31171/vlast.v29i2.8059
Текст научной статьи Социальная политика бурятских ведомств в XIX – начале XX в. и ее отражение в советской историографии (1920-е – середина 1950-х гг.)
Б урятские ведомства как территориально-родовые единицы с собственным самоуправлением, созданные в соответствии с Уставом М.М. Сперанского 1822 г., имеют богатую историю в осуществлении социальной работы. Органы самоуправления занимались организацией народного образования, здравоохранения и социального призрения. Поэтому не случайно отечественная историография с 1920-х до середины 1950-х гг. располагает рядом исследований по этой проблеме.
Начало научной разработке проблемы в части народного образования положил очерк М.Н. Богданова, опубликованный в 1926 г. Именно он поставил вопрос о заинтересованности национального самоуправления в просвещении бурят и видел его необходимость в связи с усложнением социальной жизни [Богданов 1926: 216-217]. Он также рассмотрел историю начального образования бурят в XIX в., заострив внимание на основных проблемах школ, исследовал практику учреждения стипендий и субсидий «от волостных обществ», проблему женского образования.
В том же году опубликована первая из серии статей Ф.А. Кудрявцева о просвещении бурят, в которой на основе истории Верхнеудинского уездного училища были рассмотрены социальные и хозяйственные проблемы образования. Автор охарактеризовал стиль управления делами просвещения как чиновничий, подкрепив свою оценку примером административного надзора и делом о наказании некого учителя Федорова с угрозой увольнения и перевода в «состояние ясашных» [Кудрявцев 1926а: 103-106].
Во второй статье Ф.А. Кудрявцев впервые упоминает об Онинском, Тункинском и Селенгинском бурятских приходских училищах [Кудрявцев 1926б: 68]. Основываясь на документах за 1823–1825 гг. по училищам уезда, он обнаружил непонимание родителями пользы образования и слабое содействие органов местного самоуправления «в части просвещения» [Кудрявцев 1926б: 69]. Ф.А. Кудрявцев видел национальную особенность бурятских училищ «не только в преобладании бурят», но и в программе, которая включала монгольскую грамоту. Здесь же имеются полезные данные о возрастном диапазоне учащихся – «от 8 до 20 лет».
В третьей статье Федор Александрович сосредоточил внимание на особенностях участия органов самоуправления в пропаганде просвещения [Кудрявцев 1926в: 52]. Кроме того, он подтвердил практику приема на службу выпускников бурятских училищ, а также затронул вопрос содержания учащихся. В заключение исследователь пришел к мысли о том, «что буряты оказались более отзывчивыми к устройству школ и обучению, чем русские» [Кудрявцев 1926в: 53]. Он обосновал свою оценку данными по числу училищ у тех и у других. Оценка примечательна и соответствует «относительному плюрализму» исторического знания, наблюдавшемуся в 1920–1930-х гг. [Жалсанова 2012: 95], который поддерживался бурным развитием местной печати [Дондоков 1960: 56].
Четвертая статья Ф.А. Кудрявцева была опубликована в 1927 г. В ней характеризуется социальное происхождение бурятского учительства [Кудрявцев 1927: 62]. На примере тайши Баргузинской степной думы Сахара Хамнаева историк затрагивает вопрос об участии бурят в работе училищ в качестве «блюстителей» [Кудрявцев 1927: 63]. Основываясь на документах степных дум, он привел конкретные цифры расходов ведомств на образование. Кроме того, были выявлены требования, предъявляемые к бурятским детям в училищах, и отмечено влияние хозяйственных условий на ход занятий [Кудрявцев 1927: 67].
В том же году Б.П. Махатов рассмотрел вопрос об организующей роли тайши Степной думы З. Хамаганова при открытии школы в Кударинском ведомстве. Автор указал на трудности в работе школы на первых порах с набором учащихся и в связи с малочисленностью бурятских учителей [Махатов 1927: 53].
В 1928 г. руководитель архивного управления Бурят-Монгольской АССР В.П. Гирченко в своей статье подверг критике бурятские ведомства, которые, по его мнению, не могли эффективно управлять делами просвещения. В подтверждение он привел «беспризорное состояние дел» в Хоринской степной думе в 30-е гг. XIX в. [Гирченко 1928: 16]. По мнению автора, это было закономерно по причине отсутвия в самоуправлении народного начала.
В 1929 г. в журнале «Просвещение Бурятии» была опубликована статья за подписью «Т», где была затронута проблема русификаторской роли школы, а также указаны трудности ее функционирования «в обстановке кочевого образа жизни» [Т 1929: 79-81]. В том же году В.П. Гирченко исследовал вопрос о степени доступности образования. По его мнению, нойонство стремилось закрепить доступ к образованию исключительно за собой [Гирченко 1929: 63]. На этом факте сосредоточил внимание А.И. Убугунэ, который видел в этом прямой интерес администрации для подготовки лояльного чиновничества [От царской… 1933: 14-15].
Новый импульс в разработке темы связан с майским (1934 г.) постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании гражданской истории в школах». Для его реализации в июне 1934 г. состоялось совещание историков в г. Улан-Удэ, которое должно было разрешить споры, а также пресечь попытки «буржуазно-националистического» подхода в преподавании истории и сформировать «единую линию» в историческом процессе1. Совещание способствовало выработке основных положений по дальнейшей разработке истории Бурят-Монголии [Шестаков 1935: 90].
Таким образом, наметилась тенденция к обобщению наработанных концеп- правда. 1934. № 124. С. 1.
ций по истории бурят-монголов и отторжению тех из них, которые не соответствовали официальной науке. Это позволило директору Института культуры Р. Базарону заявить о преодолении «национально-демократических ошибок»1. Однако идеологическое давление не помешало Ф.А. Кудрявцеву в 1936 г. дать смелую оценку социальной политики бурятских ведомств, которая понималась обществом как обращаемая «на общенародные нужды» [Кудрявцев 1936: 37-38]. Мнение Ф.А. Кудрявцева примечательно, если обратить внимание на события 1937 и 1938 гг., когда по обвинению в «панмонголизме» были арестованы и приговорены к расстрелу многие научные и партийные работники Бурят-Монголии, в т.ч. вышеупомянутый Р. Базарон [История Бурятии 2011: 125].
Историческая наука понесла огромные потери, однако заданное совещанием 1934 г. направление на расширение и углубление работы с источниками было продолжено и в 1939 г. дало первые результаты. В.П. Гирченко опубликовал сборник документов путешественников, побывавших в Сибири в XVII– XIX вв. Новые сведения подтвердили тот факт, что образование носило ограниченный характер [Гирченко 1939: 69-70]. Тем самым, источниковая база будущих исследований пополнилась фондами архивов Москвы и Ленинграда [Жалсанова 2012: 103].
Ключевым моментом в разработке проблемы стало издание в 1940 г. монографии Ф.А. Кудрявцева, в которой представлен обобщающий взгляд на вопросы открытия, финансирования и административной поддержки бурятских училищ при степных думах [Кудрявцев 1940].
Великая Отечественная война изменила привычный ход жизни всей страны, в т.ч. в исторической науке, когда исследования были переориентированы для поддержания патриотического духа населения. Хорошим примером тому служит опубликованная в 1943 г. работа Е.М. Залкинда об истории «боевого союза» и взаимного влияния бурят и русских в сферах хозяйства и культуры [Залкинд 1943].
XXIV пленум обкома ВКП(б), а затем пленум горкома ВКП(б), состоявшиеся в г. Улан-Удэ в сентября 1946 г., ознаменовали возвращение партии в привычное русло идеологической работы, что сказалось, прежде всего, на творческой интеллигенции2. В июне 1947 г. в г. Улан-Удэ прошло собрание партийного актива, на котором одобрили проведенную обкомом и горкомом ВКП(б) работу «по вскрытию и искоренению идеологических извращений» в деятельности «научных заведений»3 . Публичные пояснения, со ссылкой на «Краткий курс истории ВКП(б)», о сущности обнаруженных «извращений» дал Б.Д. Цибиков4. Тем самым, обобщающие исследования стали предметом критики. В этих условиях Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры и экономики 13–16 октября 1947 г. провел совещание историков. С критическими замечаниями выступил В.И. Шунков, заявивший о наличии у историков «политически вредных извращений буржуазно-националистического характера» [Шунков 1948: 236-237]. Прежде всего подверглась критике «идеализация дорусского прошлого» и его противопоставление истории бурят после прихода русских [Шунков 1948: 224]. Осуждаемое докладчи- гольская правда. 1947. № 131. С. 2.
4 Цибиков Б.Д. О некоторых недостатках и ошибках в разработке истории Бурят-
ком явление было еще в 1937 г. определено И.В. Сталиным как «местный национализм», опасность которого заключалась в стремлении к обособлению, тем самым подтачивалось «единство народов СССР» [Сталин 1937: 196]. Критика и пожелания В.И. Шункова оказали заметное влияние на разработку основополагающих задач дальнейшего изучения истории бурят-монголов [Жалсанова 2012: 106].
Спустя год А.П. Окладников рассмотрел перспективы трудоустройства выпускников бурятских училищ в XIX в. в сфере медицины [Окладников 1948: 176]. В 1951 г. был опубликован первый том «Истории Бурят-Монгольской АССР» под редакцией А.П. Окладникова, в которой Ф.А. Кудрявцев выделил сугланы как особые органы, распоряжавшиеся бюджетом социальной политики бурятских ведомств [История… 1951: 333]. Были сформулированы понятия о «комплектных» и «сверхкомплектных» учащихся [История… 1951: 427]. Кроме того, в исследовании были преодолены ошибки «буржуазно-националистического характера» [Жалсанова 2012: 107].
Социальная деятельность бурятских ведомств, помимо просвещения, также предусматривала меры по здравоохранению населения. Первым этот вопрос затронул М.Н. Богданов, который указал на отсутствие медицинского обслуживания у бурят в связи с острой нехваткой специалистов [Богданов 1926: 236]. К схожему выводу пришел C.В. Бахрушин [Бахрушин 1929: 91].
Картину дополнил В.П. Гирченко, который в 1926 г. опубликовал статью, где акцентировал внимание на работе по профилактике заболеваний населения и скота, а также по пресечению праздности [Гирченко 1926: 8].
В 1954 г. был переиздан первый том «Истории Бурят-Монгольской АССР», в котором была подтверждена фактическая недоступность медицинского ухода для бурят в рассматриваемый период [История…1954: 352]. Тем не менее следует отметить ремарку В.П. Гирченко, что «в области здравоохранения у бурят было оспопрививание», которому они обучались [Гирченко 1939: 51].
Еще одним направлением работы органов самоуправления в сфере социальной политики стало социальное призрение, на исследование которого обратил внимание академик Л.Я. Штейнберг. Он в 1927 г. рекомендовал обратить внимание на «формы взаимопомощи сородичей в нужде» [Штейнберг 1927: 130]. В.П. Гирченко связал вопрос о родовой взаимопомощи с разработкой проблемы внеэкономической эксплуатации [Гирченко 1929: 63]. На эту же проблему обратил внимание С.В. Бахрушин, который видел истоки этого явления в Уставе 1822 г. [Бахрушин 1929: 91]. Детальная разработка этой категории была произведена в ходе совещания историков в 1934 г. Формы родовой взаимопомощи стали воспринимать как инструмент эксплуатации. П.Т. Хаптаев видел выражение этих форм в отдаче «скота в пользование на прокорм» и в принуждении к труду [Шестаков 1935: 22]. Конкретизировал эту категорию В.П. Гирченко, остановившись на ренте продуктами и бесплатном труде [Шестаков 1935: 164]. Позднее П.Т. Хаптаев расширил концепцию, связав ее с развитием ростовщичества у бурят [Хаптаев 1939: 52-53].
В историческом очерке Ф.А. Кудрявцева 1940 г. была открыта для научной разработки проблема организации «хлебных экономических магазинов» [Кудрявцев 1940: 219].
Таким образом, исследования 1920-х – середины 1950-х гг. затронули основные направления социальной политики бурятских ведомств. Следование за источником и положениями марксистско-ленинской методологии привели советских историков к выводу об актуальности и важности социальной политики бурятских ведомств, несмотря на ограничительные тенденции идеологического характера, которые затрагивали все направления этой деятельности.
Тем самым, осуществленный нами историографический анализ дает возможность обобщить выводы советских историков.
Во-первых, сложилось цельное представление об организующей работе и представительской функции органов местного самоуправления бурят в деле просвещения, что проявлялось на всех доступных для бурят уровнях образования – от приходских училищ до учительских семинарий. Были затронуты основные аспекты функционирования бурятских училищ: финансы, кадры, контингент учащихся, образовательные программы, примеры взаимодействия бурятского общества с другими участниками образовательного процесса.
Во-вторых, была выявлена недоступность для бурят медицинского обслуживания, хотя встречаются сюжеты о попытках организовать в бурятских ведомствах работу по профилактике заболеваний населения и скота.
В-третьих, история деятельности бурятских ведомств по социальному призрению оказалась в наибольшей мере подверженной влиянию марксистской методологии, в результате чего была разработана концепция трансформации форм родовой взаимопомощи в формы внеэкономической эксплуатации, а органам местного самоуправления бурят была отведена роль орудия в руках эксплуататоров.
Статья подготовлена при поддержке мегагранта № W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии».
Список литературы Социальная политика бурятских ведомств в XIX – начале XX в. и ее отражение в советской историографии (1920-е – середина 1950-х гг.)
- Бахрушин С.В. 1929. Сибирские туземцы под русской властью до революции 1917 г. – Советский Север. № 1. С. 66-97.
- Богданов М.Н. 1926. Очерки истории бурят-монгольского народа. Верхнеудинск: Бурмонгиз. 302 с.
- Гирченко В.П. 1926. Материалы по истории хозяйства и родового управления добакайльских бурят во второй половине 18-го и в начале 19-го века. – Бурятиеведение. № 2. С. 7-14.
- Гирченко В.П. 1928. К истории бурят-монголов хоринцев первой половины XIX века. Верхнеудинск: Гостип. НКПТ. 22 с.
- Гирченко В.П. 1929. Социальное расслоение среди бурят-монголов в XVII–XIX вв. (окончание) – Жизнь Бурятии. № 3-4. С. 60-65.
- Гирченко В.П. 1939. Русские и иностранные путешественники XVII, XVIII и первой половины XIX вв. о бурят-монголах. Улан-Удэ: Бурмонгиз. 92 с.
- Дондоков Б.Ц. 1960. Возникновение и развитие партийно-советской печати в Бурятии (1918–1937 гг.) Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во. 135 с.
- Жалсанова Б.Ц. 2012. Источники и историография органов местного самоуправления бурят в XIX – начале XX в. Иркутск: Оттиск. 138 с.
- Залкинд Е.М. 1943. Нерушимая дружба бурят-монгольского и русского народов. Улан-Удэ: Бурмонгиз. 29 с.
- История Бурятии. Т. 3. XX–XXI вв. (отв. ред. Б.В. Базаров). 2011. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 464 с.
- История Бурят-Монгольской АССР (под ред. А.П. Окладникова). 1951. Улан-Удэ: Бурмонгиз. Т. I. 574 с.
- История Бурят-Монгольской АССР (под ред. П.Т. Хаптаева). 1954. Улан-Удэ: Бурмонгиз. Т. I. 496 с.
- Кудрявцев Ф.А. 1926а. Из истории народного образования в Прибайкалье в первой четверти XIX в. – Жизнь Бурятии. № 4-6. С. 100-106.
- Кудрявцев Ф.А. 1926б. Из истории народного образования в Прибайкалье в первой четверти XIX в. – Жизнь Бурятии. № 7-9. С. 64-69.
- Кудрявцев Ф.А. 1926в. Из истории народного образования в Прибайкалье в эпоху Николая I. – Жизнь Бурятии. № 10-12. С. 49-54.
- Кудрявцев Ф.А. 1927. Из истории бурятского учительства в 50–60 гг. XIX в. – Жизнь Бурятии. № 4-6. С. 62-68.
- Кудрявцев. Ф.А. 1936. 1905 г. в Бурят-Монголии. Улан-Удэ: Бурмонгиз. 58 с.
- Кудрявцев Ф.А. 1940. История Бурят-Монгольского народа от XVII в. до 60-х годов XIX в.: очерки. М.-Лениград. Изд-во АН СССР. 242 с.
- Махатов Б.П. 1927. К истории Кударо-Бурятской школы. – Бурятиеведение. № 3-4. С. 53-55.
- Окладников А.П. 1948. Из истории просвещения у западных бурят-монголов. – Записки БМНИИКЭ. Вып. 8. С. 176-177.
- От царской колонии до советской республики (под ред. М.А. Гудошникова, А.И. Убугунэ). 1933. М.-Иркутск: Тип. ОГИЗа треста «Полиграфкнига». 94 с.
- Сталин И.В. 1937. Марксизм и национальный вопрос: сборник статей и речей. М.: Партиздат ЦК ВКП(б). 231 с.
- Т. 1929. К истории просвещения Бурятии (Основные моменты развития народного образования в Бурятии до организации Бурреспублики). – Просвещение Бурятии. № 1-3. С. 79-82.
- Хаптаев П.Т. 1939. Национальное движение в Бурятии в период первой русской революции. Улан-Удэ: Бурмонгиз. 150 с.
- Шестаков А.В. 1935. К истории Бурято-Монголии. – Материалы дискуссии, состоявшейся в июне 1934 г. в Улан-Удэ. М.: Тип. Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 184 с.
- Штейнберг Л.Я. 1927. Краткая программа по этнографии. – Бурятиеведение. № 3-4. С. 122-139.
- Шунков В.И. 1948. Выступление на совещании историков Бурят-Монголии. 16.10.47. – Записки БМНИИКЭ. Вып. 8. С. 223-237.