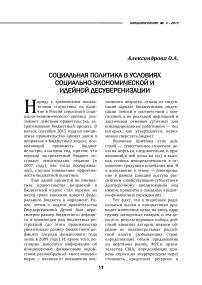Социальная политика в условиях социально-экономической и идейной десуверенизации
Автор: Александрова Ольга Аркадьевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Социальная политика
Статья в выпуске: 4 (70), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются ограничения, которые на реализацию государством различных аспектов социальной политики накладывает де-суверенизация социально-экономической сферы, связанная с процессами глобализации, в том числе, с участием во Всемирной торговой организации. Для России ситуация дополнительно усугубляется критической зависимостью доходов бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры, имеющей существенную геополитическую составляющую. Показано, что масштаб бюджетных ассигнований, направляемых на социальную и военную сферы, характеризует бюджетную политику как «ни пушек, ни масла», что не отвечает стоящим перед Россией задачам. Доказывается, что постулат о «нехватке» бюджетных средств, выдвигаемый в качестве обоснования бюджетных рестрикций и редукции социальных прав граждан, не имеет под собой веских оснований, поскольку в России до сих пор не используется целый спектр хорошо известных инструментов наполнения казны и пресечения оттока материальных ресурсов за рубеж.
Социальная политика, кризис, глобализация, вто, бюджетные расходы
Короткий адрес: https://sciup.org/14347579
IDR: 14347579
Текст научной статьи Социальная политика в условиях социально-экономической и идейной десуверенизации
Н аряду с тревожными показателями статистики, на наличие в России серьезного социально-экономического кризиса указывают действия правительства, затрагивающие бюджетный процесс. В начале сентября 2015 года по инициативе правительства принят закон о поправках в Бюджетный кодекс, позволяющий принимать бюджет не на три, а на один год, притом, что переход на трехлетний бюджет состоялся относительно недавно (в 2007 году), как тогда подчеркивалось, с целью повышения эффективности бюджетной политики.
Еще одной принятой по инициативе правительства поправкой в Бюджетный кодекс стал перенос на месяц срока внесения проекта федерального бюджета в парламент. Ранее, летом, с подачи правительства Государственной Думой был пересмотрен размер бюджетного дефицита и произведен ряд бюджетных рестрикций (до этого правительство увеличивало размер бюджетного дефицита посреди финансового года лишь в 2009 году). И, кроме того, регулярно доносится информация об инициируемых финансовым ведомством разнообразных «неотложных» мерах — начиная от повышения пен- сионного возраста, отказа от индексаций зарплат бюджетников, индексации пенсий в соответствии с прогнозной, а не реальной инфляцией и заканчивая отменой суточных для командированных работников — без которых, как утверждается, невозможно сверстать бюджет.
Основные причины этих действий — существенное снижение цены на нефть (а, следовательно, и привязанной к ней цены на газ) и высокая степень неопределенности в отношении грядущего колебания цен. И в дополнение к этому — блокирование в рамках санкций доступа российским хозяйствующим субъектам к долгосрочному кредитованию под низкие проценты в западных кредитно-финансовых учреждениях.
Тот факт, что к подобным радикальным шагам и инициативам приводит изменение цены на лишь одну группу экспортных товаров, и эта цена есть результирующая набора действий внешних акторов, никоим образом не подконтрольных российской власти (добывающих стран, определяющих объем предложения на нефтяном рынке; ФРС и правительства США, определяющих уровень спроса на энергоресурсы через стоимость кредитных ресурсов и объемы стратегических запасов США), дает экспертам основания ставить вопрос о степени «суверенности» российского бюджета и — следом — о возможности проведения в подобных условиях действительно независимой, последовательной внешней политики [1].
Далее будет проанализировано влияние на социальную политику процессов де-суверенизации в экономической и социальной сферах, а также рассмотрен вопрос о том, действительно ли неизбежным и единственным «лекарством» в условиях кризиса являются бюджетные рестрикции.
Теперь, поскольку речь зашла о внешней политике, важным фактором которой является силовая компонента (как минимум, ее потенциал), коснемся возникшей в последнее время дискуссии «Пушки или масло?». Спикером от инициирующих эту дискуссию либеральных кругов выступает экс-министр финансов А. Кудрин, а основные идеи состоят в следующем: во-первых, «пушки» и «масло» подаются исключительно как альтернатива, а, во-вторых, утверждается «непомерная раздутость» российского военного бюджета, из-за чего в бюджете, якобы, не хватает средств на статьи расходов, связанные с развитием «образования» и т.п. К первой идее — об альтернативности этих видов государственных расходов вернемся чуть позже, теперь же посмотрим, насколько адекватной является вторая претензия.
Действительно, в последние два года официальные российские СМИ регулярно рапортуют об успехах в деле военного строительства, в том числе, перевооружения армии. Однако, если взглянуть на конкретные числа, картина оказывается далеко не столь однозначной. Так, британская «The Telegraph» в своем материале, поводом к которому послужил показ на Параде Победы 9 мая 2015 г. нового российского танка Т-14 «Армата», приводит сопоставительные данные России, США и Великобритании по разным типам вооружений, из которых следует: если в живой силе, бронетехнике, артиллерии и средствах ПВО показатели России и США вполне сопоставимы, то в отношении боевой авиации и флота (как надводного, так и подводного) обнаруживается совершенно удручающая разница не в пользу России. Так, на 13892 истребителей-перехватчиков и штурмовиков США приходится 3429 российских; на 20 авианосцев США — 1 российский; на 62 эсминца — 12 российских; на 72 подлодки США — 55 российских [2]. А ведь помимо армии США следует учитывать еще и военную мощь НАТО в целом. В отношении же такого новейшего вида вооружений, как беспилотники, ситуацию характеризуют слова вицепремьера Д. Рогозина, сказанные им на международном форуме «Техно-пром — 2015»: «Россия «проспала» технологическую революцию беспилотников».
Что же касается непосредственно военных бюджетов, то, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), масштаб военных расходов России радикально отличается от объема расходов США, а также совокупных расходов государств–членов НАТО (табл. 1) и поэтому, скорее, не достаточен для обеспечения военного потенциала страны, претендующей на региональное и глобальное лидерство, наличие собственных интересов в различных регионах мира (на Ближ- нем Востоке, в Латинской Америке, в родно-ресурсному богатству терри-
Арктике и т.д.) и, кроме того, облада- торией.
ющей огромной по размерам и при-
Таблица 1
Военные расходы России и стран мира, 2014 г.
|
Страна |
Доля военного бюджета страны в мировых военных расходах, % |
|
США |
34,1 |
|
Китай |
12,0 |
|
Россия |
4,8 |
|
Саудовская Аравия |
4,5 |
|
Франция |
3,5 |
|
Великобритания |
3,4 |
|
Индия |
2,8 |
|
Германия |
2,6 |
|
Япония |
2,6 |
|
Южная Корея |
2,1 |
|
Бразилия |
1,8 |
|
Италия |
1,7 |
|
Австралия |
1,4 |
|
ОАЭ |
1,3 |
|
Турция |
1,3 |
|
Остальные страны |
20,0 |
Источник: Trends in world military expenditure. SIPRI, 2014.
Итак, нельзя сказать, что Россия тратит на «пушки» немыслимый и неподъемный объем средств — как раз, напротив.
Но и по уровню расходов на «масло» Россия оказывается далеко не в первых рядах: достаточно сравнить доли расходов на образование и здравоохранение (в % от ВВП или в абсолютных значениях по ППС) или сопоставить коэффициент замещения пенсий в России и развитых странах, чтобы обнаружить, что Россия расходует на социальные цели существенно меньше, чем страны ОЭСР в среднем.
Таким образом, если соотноситься, с одной стороны, с зарубежной практикой, а с другой — со стоящими перед Россией задачами, то складывающуюся с бюджетными расходами ситуацию, скорее, можно охарактеризовать как «ни пушек, ни масла». И это — в богатейшей стране, каковой с учетом наличия природных и людских ресурсов, научно-образовательного и промышленного потенциалов, по определению, является Россия.
Что же касается упомянутой выше «альтернативы», то, как и в случае с масштабным социальным обеспечением, которое в неолиберальной парадигме выставляется антагонистом экономического роста, вопрос — не в масштабе средств, выделяемых на «пушки», а в том, как и на что эти средства расходуются. Так, возражая ратующим за сокращение социальных расходов адептам «тэтчеризма» и «рейганомики», Т. Губи, с опорой на данные представительных международных исследований, подчеркивает:
«Не существует убедительных свидетельств того, что государство всеобщего благосостояния истощает ресурсы производительного сектора и вытесняет его из экономики. Критичным является не масштаб государственных расходов на социальное обеспечение, а характер и организация системы соцобеспечения, а именно: расширяет ли она рынки для непосредственно производительного сектора, открывая населению возможность прямо или опосредованно приобретать его продукцию, и обеспечивает ли непосредственно производительный сектор рабочей силой, способной более эффективно трудиться» [3].
Аналогично можно сказать и в данном случае: расходы, проходящие по статье «оборона», по сути, являются инвестициями в передовые отрасли промышленности, а также соответствующие сектора профессионального образования, фундаментальной и отраслевой науки. Помимо решения непосредственно оборонных задач, тем самым обеспечивается занятость и адекватный уровень оплаты труда многочисленной армии высококвалифицированных работников. Но все это — при надлежащей организации дела. В противном случае, как это бывает в российской практике, бюджетные ресурсы могут расходоваться на закупки военной техники в развитых странах Запада (странах НАТО), поддерживая, тем самым, занятость и научно-технологическое развитие в них, а не в России, либо просто расхищаться, например, путем завышения стоимости закупок.
К сожалению, в этой сфере и сегодня остаются вопросы относительно соответствия деклараций и реальных шагов, в частности, касающихся подготовки нужных военно-промышленному комплексу специалистов, стимулирования их труда и в целом создания условий для ускоренного высокотехнологичного развития.
Вот лишь несколько примеров. Пример первый: 26 мая 2015 года Законодательное собрание Севастополя приняло «Обращение к Правительству РФ о недопущении прекращения образовательной деятельности Севастопольского государственного университета в части подготовки специалистов для морской отрасли», поводом к которому послужило письмо Министерства транспорта РФ о прекращении подготовки и отказе данному вузу, осуществлявшему подготовку специалистов в области кораблестроения и морского транспорта с 1951 г., в государственной аккредитации образовательных программ по соответствующим специальностям. В обращении регионального парламента подчеркивается, что помимо нанесения серьезного ущерба как отрасли, так и экономике субъекта РФ (города Севастополя), закрытие специальности приведет к сокращению более 350 сотрудников вуза и отчислению 2200 студентов.
Второй пример касается упомянутой выше ситуации с разработкой и производством беспилотников. Казалось бы, на преодоление опасного с оборонной точки зрения отставания необходимо бросить все силы, в том числе, создать условия для привлечения в отрасль наиболее квалифицированных работников. Однако этого не происходит. Так, одним из головных предприятий в данной сфере является петербургский «ЦНИИ робототехники и технической кибернетики», который, судя по объявлениям на его сайте, имеет целый ряд незаполненных инженерно-технических вакансий. В чем же проблема? Ведь согласно информации рекрутингового портала Head Hunter, весной 2015 года в Петербурге заработная плата инженеров-конструкторов и иных подобных специалистов составляла порядка 35-45 тыс. руб. — казалось бы, не так уж мало. Однако все познается в сравнении: согласно тому же источнику, точно такой уровень оплаты труда у продавцов-консультантов в салонах мобильной связи, менеджеров по работе с клиентами в страховых компаниях и т.д. Таким образом, нынешний уровень оплаты труда разработчиков сложной современной техники, хотя и вырос, но, как и прежде, не соответствует ни уровню и качеству требующегося образования, ни связанным с работой интеллектуальным усилиям и ответственности, ни общественной значимости труда.
Причина — в сохраняющейся дискриминации производительного сектора экономики и, прежде всего, высокотехнологичных отраслей.
В последнее время к традиционным неблагоприятным факторам (завышенным тарифам естественных монополий и процентам по кредитам, тяжелому налоговому бремени и т.п.) добавилась резкая девальвация рубля, приведшая к существенному повышению стоимости импортных комплектующих и еще большему удорожанию кредита. При этом доля средств, выделенных в рамках антикризисной программы на поддержку реального сектора экономики, оказалась более чем скромной. Так, из суммарного объема средств антикризисной программы в 2,3 трлн. руб. на поддержку промышленности и АПК было предусмотрено выделить, соответственно, 20 млрд. и 50 млрд. руб. (0,85 и 2,13% от всей суммы) и еще 10
млрд. руб. (0,43%) — на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. В то же время, на докапитализацию банков выделен 1 трлн. 750 млрд. руб. (76%) [4. С. 5], притом, что никаких гарантий доведения этих средств до реального сектора экономики со времен кризиса 2008-2009 гг. так и не появилось: тогда в банковский сектор было направлено 85% средств антикризисной программы, однако львиная доля этих средств (до 80%) до промышленных предприятий доведена так и не была [5].
Не претерпела изменений и призванная защищать отечественных производителей внешнеэкономическая политика. Так, несмотря на введение грубо нарушающих правила ВТО политически обусловленных экономических санкций, Россия не воспользовалась этим как предлогом для свободного — без выплаты компенсаций — выхода из ВТО.
При этом зарубежные компании, несмотря на объявленные санкции, отнюдь не собираются терять российский рынок, а стоящие за ними государства — допускать снижение зависимости России от импорта критически важных технологий: согласно таможенной статистике, поставки оборудования для нефте- и газодобычи (являющиеся технологиями двойного назначения) из западных стран по-прежнему идут в Россию — просто не напрямую, а через их заморские (островные) территории [6].
Тема ВТО возвращает нас к вопросу о влиянии на социальную политику процессов десуверенизации 1
в экономической и социальной сферах.
Итак, насколько участие в этой международной организации позволяет государству полноценно реализовывать свои функции по защите социально-уязвимых групп населения и развитию человеческого потенциала? Ответ связан с пониманием сущности глобализации и ВТО, как ее инструмента.
Согласно апологетике глобализации, свободная циркуляция ищущих приложения капиталов должна содействовать социальному прогрессу в менее развитых странах (рост числа рабочих мест, налоговых отчислений в бюджет и т.п.) и, тем самым, выравниванию показателей их социальноэкономического развития со странами-лидерами. Однако в период триумфального шествия глобализации поляризация между мировым центром и периферией только нарастала [7], что, впрочем, вполне логично. Капитал, ограниченный национальными границами, перетекает в наиболее перспективные отрасли; в глобальной же экономике капитал перетекает туда, где удобнее экстер-нализировать издержки.
Не случайно основу рекомендаций по привлечению в страну транснациональных корпораций (ТНК) составляют указания на необходимость сохранения низкого уровня оплаты труда и социальных стандартов для местного персонала, нетребовательность экологического законодательства и т.п.
Дополнительным рычагом к созданию благоприятных для ТНК условий служит формирование у принимающих стран внешней задол- женности, благодаря которой «одобренные Всемирным банком консультанты часто пишут заново <...> трудовое законодательство, требования к здравоохранению, <...> правила выделения средств и бюджетную политику» [8. С. 68].
С целью максимизации прибыли ТНК перемещают свои производства на все более глубокую мировую периферию. Произведенная там продукция затем экспортируется на вскрытые с помощью международных торговых организаций рынки, приводя к подавлению индустрии стран-импортеров, консервации их задолженности перед международными финансовыми институтами и, как следствие, к сокращению расходов на социальную сферу. Так, например, Мексика полагала, что участие в НАФТА позволит ей стать основным поставщиком продукции на рынок США, но американские ТНК перевели производство в страны с еще более дешевым трудом, а затем, воспользовавшись правилами НАФТА, стали беспрепятственно ввозить произведенные там товары в Мексику, окончательно подавляя ее промышленность [9].
Одним из инструментов экспансии ТНК является ВТО. Как известно, Россия присоединилась к этой организации в 2012 г. Проследим последствия этого шага для занятости, доступности социальных благ и продовольственной безопасности.
Очевидно, что ситуация с занятостью определяется положением в экономике. Последняя же после присоединения к ВТО испытывает те самые трудности, что предсказывались во множестве разнообразных документов. Так, еще в 2008 г. Счетная палата РФ указывала: «баланс выгод и рисков <...> зависит от конкуренто- способности национальной экономики <…>; от принятых <…> обязательств; от эффективности госрегу-лирования внешнеторговой деятельности на стадии подготовки к присоединению к ВТО» и на то, что Россия здесь явно отстает от конкурентов [10].
Действительно, на момент присоединения в рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия занимала 67 место, а по уровню развития инсти т утов и инноваций — 133 и 85 места2; совместная со странами Таможенного союза доля в мировом высокотехнологичном производстве была менее 2%3.
О высоких рисках говорил и опыт участия в ВТО развивающихся стран: «либерализация торговли может вызвать (и часто вызывает) стремительный рост импорта без надлежащего роста экспорта. Это может привести к <…> ухудшению платежного баланса, дальнейшему росту внешнего долга. Все вышеперечисленное сдерживает возможности роста и часто влечет за собой устойчивую стагнацию или рецессию»4. Не панацея и Орган по урегулированию споров (Суд ВТО), который «и де-юре, и де-факто благоприятствует развитым странам», в то время как «развивающиеся страны оказываются в невыгодном положении, требующем сложных и дорогостоящих юридических процедур» [11. С. 81].
Тревожные прогнозы в отношении ряда значимых и смежных с ними отраслей звучали весной-летом 2012 года в преддверие ратификации Протокола о присоединении к ВТО и на ряде парламентских мероприятий 5 .
Вероятность спада производства в машиностроении, пищевой, легкой промышленности и производстве стройматериалов признавалась и в вышедшем тогда же докладе Всемирного банка6.
Не случайно информация о ходе переговоров с ВТО была практически закрыта для представителей большинства секторов экономики, случавшиеся обсуждения имели, скорее, имитационный характер [12], а официальный перевод на русский язык полного комплекта документов так и не появился. Процесс ратификации проходил в страшной спешке: материалы объемом в 2 тыс. страниц поступили в парламент менее чем за месяц до дня ратификации; Конституционный Суд рассмотрел запрос 130 депутатов Государственной Думы о конституционности ряда положений и процедурных моментов всего за 6 дней. О серьезном расколе высшего представительного органа страны по данному вопросу говорит и то, что ратификация прошла с перевесом всего в 12 голосов.
И уже осенью 2012 г. Счетная палата РФ вновь подчеркнула высокий риск наступления негативных последствий для автомобилестроения, сельхозмашиностроения, производства меди ц инской техники, сельского хозяйства7.
Более того, почти год спустя после ратификации Счетная палата не обнаружила ни правовых актов по учреждению постоянного представительства России при ВТО, ни следов финансового обеспечения его создания и деятельности в бюджете на 2013-2015 гг., ни решения вопроса об источниках финансирования участия России в работе Суда ВТО 8 . При этом даже согласованные с ВТО на период адаптации объемы субсидий для уязвимых отраслей выделяются не в оптимальные сроки и далеко не полно-стью 9 . Явно недоиспользуются и инструменты кредитно-денежной и налоговой политики, допускаемые правилами ВТО.
Негативные последствия присоединения не заставили себя ждать (даже металлурги не обнаружили ожидавшейся ими выгоды10), именно это во многом и привело к торможению российской экономики, начавшемуся еще до санкций и снижения цен на нефть. Тем не менее, с 1 сентября 2015 г. Россия снижает почти 4 тысячи ввозных пошлин на продукцию металлургии, машиностроения, лесной, легкой промышленности и агропромышленного сектора11. Отказ от исполнения обязательств ведет к серьезным санкциям, добиться же их пересмотра практически невозможно (например, ставшая членом ВТО в 2008 г. Украина попробовала в 2013 г. заявить о желании пересмотреть 381 тарифную позицию12, но получила жесткий отпор от ЕС и США13).
Ситуация в экономике негативно сказывается на наполняемости региональных и муниципальных бюджетов, несущих основное бремя финансирования социальной сферы. По-видимому, с этим было связано исключение региональных законодателей из процесса ратификации, притом, что часть вопросов затрагивала предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ.
Резкое сокращение притока средств в региональные и муниципальные бюджеты наряду с уже имевшейся у них серьезной задолженностью (причем, в значительной части — перед иностранными кредиторами) приводит к росту бюджетно- го дефицита и, в силу вынужденного сокращения социальных расходов, к снижению доступности социальных благ.
Однако воздействие ВТО на социальную политику государства не ограничивается одним лишь влиянием на доходную часть бюджетов, отвечающих за содержание социальных отраслей. Трансформируются сущность и организация деятельности социальной сферы. Делается это через Соглашение по торговле услугами (ГАТС), включающее в число услуг образование, медицину и социальное обслуживание.
Следуя ГАТС, члены ВТО принимают на себя обязательства по либерализации социальной сферы, причем либерализации перманентной и практически необратимой — отказаться можно лишь через три года и при условии прямой или косвенной компенсации партнерам их упущенной выгоды.
Поскольку господдержка учреждений социальной сферы трактуется ГАТС как нарушение принципа равенства условий работы для национальных и иностранных компаний, государству приходится сворачивать финансирование социальной сферы. Допущенный в нее частный бизнес имманентную ему задачу максимизации прибыли может решать, повышая цены (а регулирование цен рассматривается ВТО как торговый барьер) либо снижая издержки за счет сокращения работников и ухудшения условий их труда.
Все это ведет к снижению качества услуг, доступных для основной массы населения. При этом предусмотренный ГАТС такой вид услуг, как ввоз иностранной рабочей силы (но без связывания работодателей нормами Конвенции ООН по труду), подрывает возможности проведения государством эффективной политики доходов [14].
Кроме того, ВТО имеет право контролировать национальное законодательство: еще до вступления новых актов в силу члены ВТО обязаны проинформировать о них руководящие органы ВТО. И Суд ВТО, которому предписано исходить из соображений эффективности и отклонять ссылки ответчиков на гарантирование доступности общественных благ, может признать их «более обременительными, чем необходимо» и потребовать отмены. Таким образом, в рамках ВТО социальные блага переводятся в разряд услуг и в этом качестве трансформируются в предмет торговых переговоров [15].
И, наконец, коснемся влияния ВТО на продовольственную безопасность, которая, согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, утвержденной Указом президента РФ от 30.01.2010, №120, «является <…> важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета — повышения качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения». Как указывается в этом же документе, гарантией достижения продовольственной безопасности является продовольственная независимость, обеспечиваемая наличием устойчивого отечественного производства продуктов питания в объемах, при которых прекращение ввоза на территорию России жизненно важных пищевых продуктов не нарушает потребности населения в соответствии с физиологическими нормами питания.
ВТО, по словам экс-министра сельского хозяйства А.В. Гордеева, «организация лицемерная и неполезная для развивающихся стран», поскольку, по сути, есть «штаб защиты экономических интересов крупных западных государств и, прежде всего, США» [16]. В тех же выражениях ее характеризует и Дж. Стиглиц: «ВТО стала наиболее наглядным символом глобальных несправедливостей и лицемерия передовых промышленных стран <…> Проповедуя <…> необходимость отказа от субсидирования производства, сами они продолжают предоставлять миллиардные субсидии своим фермерам» [17. С. 72].
Действительно: в 2014-2020 гг. ЕС планирует поддержать свой АПК суммой в 374,4 млрд. евро, а решающие задачу удвоения в 2010–2015 гг. своего продовольственного экспорта США только на экспортные субсидии тратят не менее 1,5 млрд. долл. в год. Притом, что и сегодня уровень поддержки сельхозпроизводителей в США и ЕС радикально превосходит российский (в ЕС — более чем в 5 раз, в США — в 3 раза).
Условия же присоединения к ВТО России предусматривают снижение размеров поддержки сельхозпроизводителей до 9 млрд. долл. США и далее до 4,4 млрд. долл. США; сокращение импортных пошлин на ряд чувствительных видов продовольствия, включая молоко и мясо; запрет на экспортные субсидии. В результате, по прогнозам экспертов РАСХН, Россия будет ежегодно недополучать сельхозпродукции на сумму в 125 млрд. рублей [16].
Таким образом, присоединение к ВТО оказывает существенное влияние на занятость, наполнение региональных и местных бюджетов, порядок функционирования социальной сферы и продовольственную безопасность. Все это создает для России, присоединившейся к ВТО в не самое удачное время и на весьма невыгодных условиях, серьезные риски с точки зрения возможностей государства проводить социальную политику, эффективную как в части социальной защиты, так и в части социального развития.
И, наконец, обратимся к вопросу о том, действительно ли неизбежным и единственным лекарством в условиях кризиса является прямое или опосредованное сокращение социальных расходов или, как минимум, их консервация на неадекватно низком уровне.
Начнем с исходного, регулярно звучащего постулата о «существенной нехватке» бюджетных средств. Именно он служит обоснованием для секвестра расходных статей, а также для выдвижения инициатив, направленных на редукцию социальных прав граждан: сокращение гарантированного объема бесплатных услуг; повышение пенсионного возраста; отмену «северных» надбавок; сокращение бюджетных мест в вузах; расширение спектра услуг, предоставляемых на условиях проверки нуждаемости и т.д. Как показывают наблюдения, происходит импринтинг в общественное сознание этого, как будет показано ниже, ложного посыла.
В последний год неоднократно приходилось слышать выступления квалифицированных в своей области специалистов (врачей и т.п.), в которых тезис о «нехватке средств в бюджете» звучал как аксиома и, в силу этого, как проблема, не имеющая никакого иного решения, кроме «затягивания поясов». По сути, Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи становится совсем уже фикцией с соответствующими последствиями для доступности и качества предоставляемых услуг.
Причина наблюдаемого феномена — блокирование путем жесткого контроля за наиболее массовыми СМИ альтернативной информации по социально-экономическим вопросам. Более того, серией политтехнологи-ческих приемов обсуждение качества управления государством и распоряжения его ресурсами удалось представить уделом маргиналов (так называемой несистемной оппозиции и т.п.). В этой ситуации оппонирование постулату о «нехватке» средств выглядит чуть ли не крамолой.
Однако это не отменяет актуальность вопросов о рациональности расходования средств бюджета и внебюджетных фондов, эффективности управления государственным имуществом, средствами суверенных фондов (да и о самом их существовании, во всяком случае — в таких объемах) и т.п. То же касается и оценки экономической политики, которая либо содействует приращению национального богатства, и, соответственно, объема средств на отвечающее задачам развития социальное обеспечение, либо ведет к его сокращению. И наука не может не ставить эти вопросы, хотя делать это после переподчинения научных учреждений ведомству в системе исполнительной власти, сложнее, нежели в рамках самоуправляемой Академии наук.
Итак, существуют две причины, в принципе не позволяющие заведомо согласиться с постулатом о «нехватке» средств.
Первая причина связана с тем, что сложившийся за почти четверть века государственно-политический меха- низм с фактическим отсутствием разделения властей, реального парламентского контроля, выборной состязательности и т.п. не позволяет даже экспертам быть уверенными в полноте и достоверности информации об имеющихся у государства ресурсах и степени добросовестности распоряжения ими. Те же отрывочные сведения, которые время от времени поступают, свидетельствуют о явном отсутствии надлежащего порядка и высоком уровне волюнтаризма.
Вторая причина связана с тем, что сегодня в России никоим образом не используются те инструменты, которые прямо и опосредованно способствуют наполнению казны в социальных рыночных экономиках, а также препятствуют оттоку капитала из страны.
-
1. Хотя Россия — лидер по имущественному неравенству и один из лидеров по неравенству доходов населения, в стране уже второй десяток лет под надуманными предлогами сохраняется плоская шкала НДФЛ, регрессивная шкала для социальных отчислений, мизерные налоги на доходы от капитала и финансовых операций, практически нулевой (вместо прогрессивного) налог на наследование и дарение. В результате подобного потакания интересам топ-менеджмента и крупных собственников баснословные суммы из-под налогообложения выводятся, и основным источником поступлений в бюджет, связанных с доходами граждан, оказываются налоги с мизерных зарплат рядовых работников.
-
2. В течение десятилетий бюджет не получает налоговых доходов в силу чрезвычайной оффшоризации российской экономики (4/5 активов крупного бизнеса, производящих бо-
- лее 80% ВВП, зарегистрировано в оффшорах [1]). Притом, что и здесь есть давно апробированные зарубежной практикой инструменты: например, резкий рост налоговых ставок в случае нахождения в оффшорной юрисдикции более определенной, весьма небольшой (порядка 15%), доли акций. Теперь «оффшорные капиталы» предлагается амнистировать, не спрашивая об их происхождении и не взимая (пусть задним числом) никаких налогов, что для мировой практики беспрецедентно.
-
3. Крайне неэффективным является использование богатейшего природно-ресурсного потенциала — в десятки раз ниже, чем в средне- и высокоразвитых странах [18]. Более того, в то время как в мире усиливается «ресурсный национализм» 14 — как ответ на присущую глобализации тенденцию дерегулирования торговли сырьем с целью сдерживания самостоятельного развития ресурсообеспеченных стран, в России под предлогом привлечения иностранных инвестиций и дополнительных средств в бюджет планируется и реализуется снижение доли государства
-
4. Отказ от использования хорошо известных зарубежной практике инструментов контроля за трансграничным перетоком капитала генерирует отток финансовых ресурсов, исчисляемый многими десятками миллиардов долларов в год: в 2014 г. за рубеж было выведено 130 млрд. долларов, в 2015 г. ожидается отток не ниже 100 млрд. долларов, что эквивалентно 5–7% ВВП. Из них не менее трети — нелегальный отток, связанный с уклонением от налогообложения и наносящий бюджету ущерб размером до триллиона рублей в год [19].
-
5. Продолжается аккумулирование огромных по объему средств от продажи российских энергоресурсов, конвертированных в ценные бумаги иностранных государств, в резервных фондах. На 1 сентября 2015 года совокупный объем средств Резервного фонда составил 4,7 трлн. руб., или 70,7 млрд. долл. США (6,4% ВВП), в
предшествующие годы объемы не допускаемых в российский бюджет средств были, в основном, на аналогичном и даже более высоком уровне 16 . Но при наличии таких резервов Россия постоянно заимствует, причем под проценты, существенно более высокие (порядка 7% годовых), нежели те, что получает на упомянутые выше ценные бумаги (порядка 0,5-1%). В результате, огромные средства уходят на обслуживание госдолга: если в 2012 г. это были 32 млрд. руб. (что соответствовало суммарным расходам бюджета на ЖКХ, культуру и кинематографию) [20] , т о в 2014 г. — уже 415,6 млрд. рублей17.
-
6. Наконец, следует отметить такое типичное явление, как внедрение в систему исполнения бюджетных назначений посреднических, по сути, паразитических структур, отвлекающих на себя существенную часть средств, предназначенных для финансирования социальных отраслей, предприятий реального сектора экономики и т.д. Так, до 40% средств ОМС уходит на содержание страховых компаний и оплату банкам за проведение транзакций. Как указывает зам. директора Национального НИИ общественного здоровья РАМН А. Лин-денбратен, «вместо одного государственного финансового канала появились тысячи, потому что у нас тысячи страхователей, тысячи учреждений, сотни страховых компаний и так далее. И поскольку все финансовые
в крупных добывающих ком па ниях («Алроса», «Роснефть» и т.п.)15. Дополнительные потери федерального и региональных бюджетов и, одновременно, существенный рост нагрузки на внутреннего потребителя и производителей, исчисляемые, по расчетам специалистов, десятками и сотнями млрд. рублей [5], влечет за собой введенный на фоне нынешнего кризиса «налоговый маневр» — снижение экспортных пошлин на энергоресурсы с компенсацией выпадающих доходов за счет повышения НДПИ.
потоки обслуживает банковская система, а все банковские операции не бесплатные, то мы еще за счет социальных денег кормим колоссального посредника в виде банковской системы» [21].
Представляется, что только перечисленных неиспользуемых резервов пополнения казны, а также примеров непродуктивного отвлечения бюджетных средств и потакания выведению материальных ресурсов за рубеж более чем достаточно для того, чтобы решительно не согласиться с выдаваемым за аксиому постулатом о «нехватке» бюджетных средств. И, соответственно, с теми, затрагивающими социальную сферу мерами, которые, основываясь на этой «аксиоме», подаются как неизбежные.
Таким образом, уже реализованные и намечаемые на будущее бюджетные рестрикции обусловлены не столько объективными, сколько субъективными — идеологическими факторами, а именно: приверженностью неолиберальной парадигме и тем рецептам, которые странам мировой периферии прописывают наднациональные финансовые институты.
В то же время, такие «антикризисные меры», как перевод населения, промышленности и социальной сферы на «голодный паек» противоречат международной практике успешного преодоления системных кризисов. И в ХХ веке, когда мир выкарабкивался сначала из «Великой депрессии», а затем из послевоенной разрухи, и уже в нынешнем веке (в 2008-09 гг.) основной акцент делался на стимулировании инвестиционной активности, поддержке занятости и массового платежеспособного спроса, вложениях в человеческий потенциал [22]. К сожалению, в этом вопросе современная Россия из кризиса в кризис идет своим, особым путем. Но, ма, это отнюдь не та дорога, «которая говоря словами из известного филь- ведет к храму».
Список литературы Социальная политика в условиях социально-экономической и идейной десуверенизации
- Дегтев А.С. Суверенен ли российский бюджет. . -Режим доступа: http://rusrand.ru/analytics/suverenen-li-rossijskij-bjudzhet
- Oliphant R. How Vladimir Putin's military firepower compares to the West//The Telegraph. 06.05.2015
- Taylor-Gooby P. Social change, social welfare and social science. N.Y.; L., 1995.
- Бодрунов С.Д., Золотарев А.А., Андрианов К.Н., Драндин Д.Л. Реиндустриализация экономики, импортозамещение и антикризисные меры Правительства России. Предложения по корректировке антикризисного плана Правительства РФ//Научные доклады Института нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте -СПб.: ИНИР, 2015.
- Дмитриева О., Грачев И., Крутов А., Петухова Н., Ушаков Д. Альтернативная антикризисная программа -2015. . -Режим доступа: http://www.dmitrieva.org/id893
- Шипилов Л. Запад намеренно тормозит импортозамещение в России?//Столетие.Ру. 31.07.2015
- Henwood D. Beyond Globophobia//After the New Economy. New Press. 2003.
- Кортен Д. Когда корпорации правят миром. -СПб.: ВиТ-принт, 2002.
- Хорос В. Полупериферия в контексте глобализации//Россия в центро-периферичес-ком мироустройстве: Сб. статей/Сост. и ред. Д.Ю. Глинский. -М.: Московское представительство Фонда Ф. Эберта, 2003.
- Анализ и оценка мер, направленных на повышение эффективности системы регулирования внешнеторговой деятельности в условиях присоединения России к ВТО//Бюллетень Счетной палаты РФ. -2008. -№ 12.
- Стиглиц Дж., Чарлтон Э. Справедливая торговля для всех. Как торговля может способствовать развитию. -М.: Весь мир, 2007.
- Муранов А.И. Обязательства, которых мы не знаем. . -Режим доступа: http://stop-vto.ru/2011/11/13/obyazatelstva-kotoryih-myi-ne-znaem-vstuple-nie-rossii-v-vto-tochka-zreniya-yurista/
- Бабкин К.А., Кузнецов А.В., Корчевой Е.А., Пронин В.В., Самохвалов В.А. Последствия присоединения России к Всемирной торговой организации. -М.: ВТО-Информ, 2012.
- Гоулд Е., Ждановская А. Почему все же ГАТС ведет к коммерциализации общественных благ? . -Режим доступа: http://wto-inform.ru/experts/aleksandra_zhdanovskaya_vto_inform_ellen_gould_ekspert_po_gats_kanada_pochemu_vse_zhe_gats_vedet_k_k/.
- Sinclair S. GATS. How the WTOs new «services» negotiations threaten democracy. . -Режим доступа: http://www.ratical.org/co-globalize/GATSsummary.pdf
- Тарасов В.И. Риски и угрозы конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса и продовольственной независимости России при присоединении к ВТО//Агропродовольственная политика России. -2012. -№ 6.
- Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. -М.: Национальный общественно-научный фонд, 2003.
- Глазьев С.Ю. Несмотря на все проблемы, Россия самая богатая страна в мире. . -Режим доступа: http://rusnovosti.ru/posts/375130.
- Глазьев С. Преодолеть спад. . -Режим доступа: http://www. odnako.org/almanac/material/preodolet-spad/
- Степашин С. Рост госдолга является риском для бюджетной системы РФ. . -Режим доступа: http://top.rbc.ru/rbcfreenews/20130211130411. shtml
- Механик А. Пирамида Семашко. . -Режим доступа: http://expert.ru/expert/2011/30/piramida-semashko/
- Александрова О.А. Институциональные проблемы становления социального государства в современной России. -М.: А-Студио, 2009.