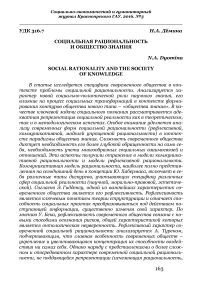Социальная рациональность и общество знания
Автор: Дмина Н.А.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (3), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется специфика современного общества в кон-тексте проблемы социальной рациональности. Анализируется ха-рактер новой социально-политической роли научного знания, его влияние на процесс социальных трансформаций в контексте форми-рования контуров общества нового типа - «общества знания». В ка-честве ключевой задачи социального познания рассматривается аде-кватная репрезентация социальной реальности как в теоретическом, так и в методологическом аспектах. Особое внимание уделяется ана-лизу современных форм социальной рациональности (рефлексивной, коммуникативной, моделей упрощенной рациональности) в контек-сте парадигмы общества знания. Сложность современного общества диктует необходимость его более глубокой обращенности на само се-бя, необходимость учета многообразных социальных взаимосвязей и отношений. Эти аспекты получили отражение в модели коммуника-тивной рациональности и модели рефлексивной рациональности. Коммуникативная модель рациональности, наиболее полно представ-ленная на сегодняшний день в концепции Ю. Хабермаса, включает в се-бя различные типы дискурсов, учитывающих специфику различных сфер социальной реальности (научной, морально-правовой, эстетиче-ской). Согласно Э. Гидденсу, одной из важнейших характеристик со-временного общества является его рефлексивность. Рефлексивность является ключевым понятием теории структурации и означает спо-собность социальных практик преобразовываться под действием по-ступающей информации, существенно изменяя свой характер. По мнению У. Бека, рефлексивность современного общества связана с но-выми способами осознания рисков, общей характеристикой которых является онтологическая неуверенность. Рефлексивный характер со-временной социальной рациональности анализируется А. Туреном, подчеркивающим, что главная особенность современных обществ - укрепление и увеличивающаяся концентрация их способности воздей-ствия на самих себя. Однако наряду с представлениями о более слож-ном и опосредованном характере современной социальной рациональ-ности, не поддающейся репрезентации (исчезающая рациональность, ускользающая рациональность), существует и противоположная тенденция в современной социальной теории - обращение к моделям упрощенной рациональности (теории ограниченной рациональности, полезного знания, макдональдизации).
Социальная реальность, общество знания, ре-презентация, рациональность, рефлексивная рациональность, комму-никативная рациональность, упрощенная рациональность
Короткий адрес: https://sciup.org/140205673
IDR: 140205673 | УДК: 316.7
Текст научной статьи Социальная рациональность и общество знания
Теории информационного, постиндустриального, технотронного общества, получившие отражение в известном докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» декларируют увеличение экономической, политической и культурной значимости знания, что предполагает формирование контуров общества нового типа – «общества знания». В связи с этим актуализируется проблематика новой социально-политической роли научного знания, а также его влияния на процесс социальных трансформаций.
Однако осмысление происходящих в современном обществе процессов сталкивается с осознанием все меньшей определенности, неполноты информации, в том числе и в области социального познания. Все менее определенными становятся как контуры самого современного общества, так и способы его постижения.
Сегодня, зачастую, сама способность научного знания адекватно описывать социальную реальность ставится под сомнение, заново осмысливаются границы и функции науки как социальной практики.
«Ускользающий мир», «конец знакомого мира» – эти и им подобные метафоры все чаще встречаются в современном социальном дискурсе. «Ускользание» общества связано с отсутствием фокуса его восприятия, способов адекватной репрезентации. Проблема самореференции социальной системы, кризиса ее самоописаний (Н. Луман), критика метанарративов (Ж.-Ф. Лиотар), универсалистских картин мира (Ю. Хабермас), исчезающая рациональность как отсутствие осознаваемой закономерности социального развития (И. Валлерстайн) связываются с крайней степенью структурной и функциональной сложности современного общества, приводящей к кризису общественных саморепрезента-ций.
Общественная репрезентация – способность социальной системы удовлетворительно себя описывать, «представлять» в рамках социальной теории – становится проблемой именно в рамках современной глобальной функционально-дифференцированной социальной системы. В контексте центральной проблемы нашего исследования – «общества знания» – вопрос может быть поставлен следующим образом: может ли «общество знания» иметь адекватное знание о самом себе?
Современное общество имеет множество социальных подсистем, невероятно сложную социальную структуру (экономическую, социальноэтническую, профессиональную и т. д.), при этом ни одна из подсистем или социальных групп не может быть выделена в качестве центральной, выражающей наиболее объективную точку зрения относительно социальной системы в целом. Эта проблема приобретает актуальность в связи с формированием индустриального и постиндустриального общества. Более ранние типы социума не имели проблемы с собственной идентификацией, так как либо были однородны и имели единую картину мира
(архаическое общество), либо имели иерархическое устройство, в рамках которого можно было выделить «центр» или «верхушку», которые и продуцировали «господствующие» общественные самоописания [5]. И только в обществе эпохи модерна, «современном» и «постсовременном» социуме невозможно выделить социальный институт, государство, социальную группу и т. д., которые бы могли выработать наиболее верное и объективное описание современного общества.
Эта неоднозначность коснулась и процессов научного познания общества: стираются дисциплинарные рамки различных наук, происходит размывание границ между научным и ненаучным знанием, между знанием и эстетической деятельностью. Воздействие на аудиторию достигается не популяризацией философского и социологического академических дискурсов, а шокирующим, ошеломляющим воздействием на аудиторию; анализ существенных сторон социальной действительности сменяется акцентом на периферийные аспекты общества. Научным системам в социальной теории противопоставляются теории, не претендующие на общезначимость, например, так называемые queer-теории (queer (англ.) – странный, подозрительный), выражающие точки зрения экзотических или маргинальных социальных групп [7].
Мы попытаемся проанализировать возможности научного познания общества и представим это в рамках анализа типов современной социальной рациональности, которая на сегодняшний день характеризуется неоднозначно: от моделей рефлексивной рациональности до моделей упрощенной или ограниченной рациональности.
Какими бы ни были интеллектуальные инструменты постижения социальной реальности, если они служат основой ее понимания, то способны в той или иной мере поддерживать системную целостность. Но рано или поздно система выходит из равновесного состояния, доходит до некой точки бифуркации, задающей тенденции формирования нового, непредсказуемого системного порядка. Думается, подобная ситуация сложилась и в настоящее время. Каковы же перспективы социальной репрезентации в свете данных тенденций? И какие концепции социальной рациональности могут быть положены в ее основу?
И. Валлерстайн выдвигает идею всемирной дискуссии, которая может способствовать росту социальной рациональности, способности самопонимания общества. В условиях непредсказуемости фундаментальных социальных изменений происходит увеличение роли рационального выбора и моральной ответственности. Это имеет особое значение в условиях «недовольства рациональностью», которое Валлерстайн сравнивает с «недовольством культурой» З. Фрейда. Основаниями для такого недовольства, по мнению Валлерстайна, служат разочарование в способности современных государств эффективно решать внутренние и внешние проблемы, отход от либерализма, индивидуализма, оптимизма, бюрократизация социальной жизни [2].
Репрезентация социальной реальности в настоящее время пробле-матизируется в контексте постмодернистской рефлексии, для которой характерны отказ от рационалистических способов постижения, деконструкция самой идеи социальности, децентрация и детрансцендентали-зация языка и мышления. Само социальное познание сближается с литературно-эстетической деятельностью, игра, перформанс приходят на смену методологическим стандартам исследования и самим возможностям существования социальной теории.
Согласно Ф. Джеймсону, социальная реальность, понимаемая им как постсовременность, может быть описана следующим образом. Во-первых, постсовременность – это бездонный, поверхностный мир, мир имитации. Во-вторых, это мир, который испытывает недостаток в аффектах и эмоциях. В-третьих, потеряно чувство своего места в истории; трудно провести грань между прошлым, настоящим и будущим. В-четвертых, вместо бурно развивающихся производственных технологий современности в постсовременном обществе господствуют имплозивные, отупляющие производственные технологии (например телевидение) [7].
Говоря о моделях современной социальной рациональности, которые могут обеспечить возможность научного постижения общества и поиск закономерностей, логики и механизмов его развития, выделим следующие. Сложность современного общества диктует необходимость, с одной стороны, более глубокой его обращенности на само себя, с другой стороны, необходимость учета многообразных социальных взаимосвязей и отношений. Эти аспекты получили отражение в модели коммуникативной рациональности и в модели рефлексивной рациональности. Другая тенденция – это некоторая редукция общества, сведение его понимания к более понятным моделям – получила выражение в моделях «упрощенной рациональности», в качестве которых можно отметить модель полезного знания, теорию ограниченной рациональности, модели «макдональдизации» и «сникеризации» общества.
Рассматривая современность как «незавершенный проект», в основе которого лежит развитие форм рациональности, Ю. Хабермас считает возможным рациональное постижение современного общества. Сама современная рациональность мыслится Хабермасом как коммуникативная, включающая в себя различные типы дискурсов, учитывающих специфику различных сфер социальной реальности (научной, моральноправовой, эстетической). Хабермас убежден, что рациональный потенциал современности еще не исчерпан, особую роль в его актуализации он придает субъекту рациональной коммуникации – «просвещенной общественности» [10].
Характеризуя современную эпоху, Э. Гидденс называет ее «радикальной», «высшей», «поздней» современностью. Современность понимается им как «сокрушительная сила», не всегда поддающаяся управлению. В наши дни социальная система превосходит прежние по темпам развития, масштабу и глубине изменений.
Согласно структурационной теории Гидденса, одной из важнейших характеристик современного общества является его рефлексивность. Рефлексивность является ключевым понятием теории Гидденса и означает способность социальных практик преобразовываться под действием поступающей информации, существенно изменяя свой характер. В современном мире все открыто рефлексии, в том числе и сама рефлексия [3].
У. Бек характеризует современное общество формированием его нового профиля – «профиля риска», имеющего глобальный характер, а также новыми способами осознания рисков, общей характеристикой которых является онтологическая неуверенность. «Высокая» современность меняет и облик личности, которая становится «рефлексивным проектом», о котором можно размышлять, который можно изменять и формировать.
В работе «Общество риска. На пути к другому модерну» У. Бек утверждает, что если классический этап современности был связан с промышленным обществом, то новая современность наилучшим образом может быть охарактеризована как «общество риска». Если классическая современность формировалась вокруг богатства и его распределения, то в новой современности основной проблемой являются предотвращение и минимизация риска. Если идеалом современности прошлого было равенство, то идеал новой современности – безопасность. В отличие от разделенности общества и природы в классическом индустриальном обществе в развитом индустриальном обществе природа и общество переплетены: природа есть общество, а общество есть также природа [1].
Исходя из рефлексивного характера новой современности, сама ее рациональность может быть понята как рефлексивная. Увеличение рефлексивности сопровождается процессом индивидуализации, освобождением социальных агентов от структурных ограничений. Индивиды становятся более независимыми от своего социального положения и более рефлексивными. Это проявляется в индивидуальном выборе социальных отношений и социальных сетей, их образовании, поддержании и обновлении.
Тезис о рефлексивном характере рациональности современного общества разделяется также французским исследователем А. Туреном, подчеркивающим, что главная особенность современных обществ – укрепление и увеличивающаяся концентрация их способности воздействия на самих себя [9].
Изменение контуров современного мира не отрицает необходимости и возможности его рационального постижения, более того, характеризуется увеличением активности и рефлексивности социальных агентов. Однако наряду с представлениями о более сложном и опосредованном характере современной социальной рациональности, не поддающейся репрезентации (исчезающая рациональность, ускользающая рациональность), существует и противоположная тенденция в современной социальной теории – обращение к моделям упрощенной рациональности. Основания для возникновения концепций подобного рода были, на наш взгляд, заложены сложившимися в XX в. концепциями формальной рациональности – фордизм, постфордизм – которые, описывая логику управления производством, выдвинули некие схемы социального взаимодействия, способные привести к его максимальной эффективности. Другим, не менее важным основанием, была концепция бюрократии М. Вебера, в которой, как известно, бюрократия выступает идеальным (то есть максимально рациональным) типом управленческой организации.
В рамках концепции общества знания разрабатывается модель «полезного знания». Полезное знание – «подмножество всего объема знаний, которое имеет отношение к постижению природы в целях контроля над ней и манипулирования ею ради нашей материальной пользы» [6, с. 32]. Концепция полезного знания осмысливает знание как источник экономического роста, вне познавательных способностей и социальных институтов. Знание в данном контексте представляет собой технологическое манипулирование природой в материальных целях.
Полезное знание может быть разделено на две группы: пропозициональное (знание того, что) – каталогизирует природные явления и закономерности и прескриптивное знание – знание, предписывающее совершение определенных действий, связанных с манипулированием с окружающей средой ради материальных целей (производство).
Пропозициональное знание содержит в себе научное знание, неформальные знания о природе, интуитивные представления и понимание законов природы, традиции народной мудрости, житейский опыт. Так, географические знания изначально складывались из представлений относительно способов добраться из пункта А в пункт В.
Прескриптивное «знание как» носит рецептурный характер, представляет собой технологию, инструкцию. Именно этот тип знания преобразует знание в действие. Проблема доступа к прескриптивному знанию состоит в невозможности его полной формализации, вербализации и эксплицитного выражения, частично оно связано с непосредственным опытом, человека его применяющего (так называемая проблема «молчаливости» инструкций).
Можно говорить о наличии некоего метанабора технических умений человечества в различные эпохи. Какие из этих технических умений оказываются востребованы производством и повседневной практикой – вопрос, решение которого исследователи видят в теории, аналогичной теории естественного отбора (Нельсон, Уинтер) [6].
Концепт полезного знания адекватен в условиях модерна. До эпохи модернизма технологический рост не был решающим фактором экономического роста: существовали инженерия – без механики, выплавка чугуна – без металлургии, красильная промышленность – без органической химии, горное дело – без геологии, медицинская практика – без иммунологии и микробиологии. Имеющихся знаний было недостаточно для того, чтобы генерировать устойчивый технологический рост на основе технологических изменений. Изменение этой ситуации порождает промышленную революцию.
Более широкая и имеющая меньше издержек эпистемологическая база обусловливает более высокую вероятность совершенствования технологий. Знание о принципах работы технологий уменьшает издержки на их улучшение и развитие. В качестве предпосылки расширения эпистемологической базы и развития технологий в рамках концепции полезного знания указывается необходимость институциональных предпосылок – определенного рода системы вознаграждений, стимулирующей научную и технологическую деятельность. Количество знания и талантливых людей, производящих его, ограничено, поэтому институциональные аспекты поддержки играют ключевую роль. Необходимы стимулы для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со стороны общества, рациональная система вознаграждений (например система патентов, защиты интеллектуальной собственности).
Рациональность человека как экономического агента анализируется в рамках концепции «ограниченной рациональности», которая допускает неполноту информации, недостаточность времени и ресурсов. Ограниченная рациональность предполагает максимизирующее поведение человека, ориентирующегося на выбор лучшего варианта. Но, по мнению Г. Саймона, подобное поведение выходит за рамки экономического и распространяется и на другие социальные сферы. Подобного рода рациональность тем более проявляется, чем в большей степени присутствуют неполнота информации и неопределенность в принятии решений. В условиях невозможности доступа к полной информации и достижения глобальной максимизации в решении различного рода задач ограниченная рациональность выступает формой удовлетворительного решения проблемы. Ограниченная рациональность означает экономическое поведение, которое является преднамеренно рациональным, но лишь в ограниченной степени; отражает лимитированность познавательных способностей человека в получении, хранении, восстановлении и обработке информации [8] . Рациональность в подобной ситуации может пониматься как рациональность процедур принятия решений, которая предполагает учет как познавательных возможностей человека, так и присущих ему когнитивных ограничений.
Наиболее известная концепция упрощенной рациональности на сегодняшний день – теория макдональдизации Дж. Ритцера. Как для Вебера моделью формальной рациональности была бюрократия, так для Ритцера «ресторан быстрого питания представляет собой современную парадигму формальной рациональности» [7, c. 497].
Основные измерения данного типа формальной рациональности – эффективность, предсказуемость, исчисляемость, контроль с использованием унифицированных, не учитывающих личностный фактор, технологий – характерны как для сети быстрого питания «Макдоналдс», так и в целом для современных средств потребления – современные супермаркеты, отели, банковские системы и т. д. При внешней простоте данный механизм не является все же абсолютно прозрачным и полностью просчитываемым: так, замена человеческих технологий унификацией операций привносит иррациональность.
Единственное различие между своей «упрощенной» концепцией рациональности и ее «усложненными» альтернативами (Гидденс, Бек) автор концепции макдональдизации видит в характере ситуаций, служащих «модельными» для концепции рациональности. Для Гидденса и Бека это – чрезвычайные обстоятельства, грозящие рисками и катастрофами, в то время как для Ритцера – обыденные жизненные явления (гамбургеры или кредитные карточки), которые не грозят чрезвычайными рисками. Клиент ресторана быстрого питания в любом случае может быть уверен, что он получит свой гамбургер и платеж по кредитной карте будет проведен.
Ритцер рассматривает также перспективу макдональдизации чрезвычайных обстоятельств: «Атомная электростанция, конечно, функционирует эффективно, работает предсказуемо, опирается на количественные критерии и применяет широкий ряд унифицированных технологий, однако, как и другие макдональдизированные системы, она порождает иррациональные проявления рациональности, в том числе редкие, но разрушительные аварии» [7, c. 505].
Примером модели упрощенной рациональности является и модель так называемой «сникеризации» [4]. Данная модель предполагает не полную унификацию продукта, а его разнообразные модификации. Эта тенденция относится не только к товарам массового потребления, но и к информационным продуктам, форматам СМК, и даже к имиджам политических лидеров и партий.
Непредсказуемое общество риска или предсказуемый макдональди-зированный мир без неожиданностей – такова дилемма современного общества. Каким ему быть – зависит от того, случится ли «возвращение действующего субъекта» и каковы будут его рациональные цели и ценностные измерения.
Список литературы Социальная рациональность и общество знания
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. -318 с.
- Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология 21 века. -М.: Логос, 2003. -368 c.
- Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. -М.: Академический Проект, 2005. -528 c.
- Касютин В.Л. Социальные технологии как метод оптимизации ме-неджмента в современных региональных печатных СМИ РФ//На-учные ведомости БелГУ. Сер. «Философия. Социология. Право». -2009. -№ 7.
- Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества//Социо-Логос/под ред. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппо-ва. -М.: Прогресс, 1991. -Вып. 1. -С. 194-216.
- Мокир Дж. Общество знания: теоретические и исторические основы//Экономический вестн. РГУ. -2004. -Т. 2, № 1. -С. 10-37.
- Ритцер Дж. Современные социологические теории. -СПб: Питер, 2002. -688 с.
- Саймон Г.А. Рациональность как процесс и продукт мышления//THESIS. -1993. -Вып. 3. -С. 16-38.
- Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. -М.: Научный мир, 1998. -204 с.
- Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. -М.: Весь мир, 2003. -416 с.