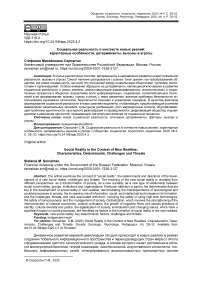Социальная реальность в контексте новых реалий: характерные особенности, детерминанты, вызовы и угрозы
Автор: Сероштан С.М.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено понятие, детерминанты и направления развития новой социальной реальности, вызовы и угрозы. Смысл явления раскрывается с разных точек зрения: как преобразование общества, как новая социальность, как иной тип отношений между социальными общностями, группами, институтами и организациями. Особое внимание обращено на детерминанты, являющиеся ключевыми в развитии социальной реальности в новых реалиях, демонстрирующие взаимозависимость технологических и социетальных процессов в обществе, возрастание роли информационных, социальных, интеллектуальных технологий в ее формировании; вызовы, угрозы и риски, с ними связанные, включая проблемы безопасности использования наукоемких технологий, безопасности сознания и управления социумом. В качестве факторов формирования социальной реальности в новых реалиях выделены: глобализация, предполагающая усиление взаимосвязи национальных экономик, культурную унификацию; рост миграционных потоков, обуславливающий проблемы идентичности, культурного разнообразия и справедливости; цифровизация общества, индивидуализм и изменение ценностей, оказывающие значительное влияние на социальные процессы.
Новая социальная реальность, ключевые детерминанты, факторы, вызовы и угрозы
Короткий адрес: https://sciup.org/149148332
IDR: 149148332 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24158/spp.2025.4.3
Текст научной статьи Социальная реальность в контексте новых реалий: характерные особенности, детерминанты, вызовы и угрозы
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Динамичное развитие мировой цивилизации сегодня происходит в новых реалиях в рамках создания глобального информационного пространства и перехода ведущих стран мира от пятого к формированию шестого технологического уклада, в основе которого лежат достижения в области молекулярной биологии, генной инженерии, нанотехнологий, искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем
(Глазьев, Косакян, 2024), что обуславливает, с одной стороны, активизацию социально-экономических процессов во всех сферах жизнедеятельности общества и создание новых социальных технологий, материальных и духовных ценностей, с другой – большие вызовы, угрозы и риски, связанные с безопасностью личности, государства и человеческой цивилизации в целом. Среди таких отрицательных явлений, представляющих особую опасность, необходимо обратить внимание на нарушение экологической устойчивости, неадекватное использование высоких технологий, в том числе для производства оружия массового поражения, международный терроризм и повышение вероятности военных конфликтов, рост глобального экономического неравенства и девальвацию традиционных ценностей.
В настоящее время достигнут настолько «высокий уровень технологического развития (производительных сил)», благодаря которому, казалось бы, возможно «удовлетворить разумные потребности человечества и решить все насущные социальные проблемы». Однако «состояние производственных отношений, в центре которых стоит человек со своими (не) разумными потребностями, привело человечество к использованию этих производительных сил и имеющихся ресурсов, в том числе, и для самоуничтожения» (Прохоренко, 2023: 5). Так, военные расходы в мире в 2024 г. по сравнению с 2023 г., по оценкам Института изучения мировых рынков, увеличились с $2,24 трлн до $2,46 трлн. Коэффициент военных расходов во внутреннем валовом продукте (ВВП) стран мира в целом вырос с 1,59 % в 2022 г. до 1,8 % – в 2023 г. и до 1,94 % – в 2024 г.1
Среди наиболее значимых вызовов для нашей страны следует выделить такие, как: трансформацию миропорядка, связанную с ростом геополитической и экономической нестабильности, международной конкуренции и конфликтности; демографический переход, сопряженный со снижением рождаемости, старением населения; изменение климата и сложности с воспроизводством природных ресурсов; новые гибридные военные, террористические, информационные и биологические внешние угрозы национальной безопасности; диспропорции в социально-экономическом территориальном развитии2. Кроме того, следует отметить, что для России в большей мере, чем для других стран характерны культурно-цивилизационные особенности развития, связанные с огромной территорией и неравномерностью территориального эволюционирования, наличием множества этносов, культур и конфессий, а также культурных и национальных традиций, предопределяющих усиление роли государства в социально-экономических, политических и культурных процессах преобразования российского общества (Пантин, 2021).
Все это, безусловно, влечет за собой трансформацию социальной сферы, качественное изменение основных ее параметров и внутренних связей, имеющих системный характер, переход к принципиально иной социальной реальности, являющейся результатом деятельности человека и отражающей существующие в действительности общественные явления и процессы.
«Социальная реальность – это все то, что создано человеком и является объективированным результатом его субъективной деятельности» (Новая социальная реальность…, 2020: 16). Как продукт взаимодействия различных социальных сил, функционируя и развиваясь, она оказывает и положительное, и отрицательное влияние не только на самого человека, который ее создал, но и в целом на всю природу. Отрицательные явления и процессы, присущие современной социальной реальности, объясняются опережающим характером общественного действия на микроуровне (индивидуумы, социальные группы, хозяйствующие субъекты) по сравнению с ее макроуровнем (национальная и мировая экономика), характеризующимся высокой степенью неопределенности.
Рассматривая системообразующие факторы новой социальной реальности, легко обнаружить два базовых противоречия человеческой цивилизации (Новая социальная реальность …, 2020):
– культурное отставание (cultural lag), отражающее рассогласование ускоренного развития процессов интеграции информационно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности и относительно медленной трансформации культурных паттернов и морально-нравственного состояния общества, а также связанную с этим духовную деградацию и снижение культурного уровня в общественном сознании;
– управленческое отставание (managerial lag), отражающее применение на практике управленческих технологий, не учитывающих особенности социальной реальности в условиях неопределенности и рисков, и связанные с этим материальные, финансовые и духовно-нравственные потери.
Поэтому в современном мире актуализируется исследование проблем, связанных с формированием и развитием новой социальной реальности в контексте трансформации инновационных технологий и бизнес-процессов во всех сферах деятельности, обуславливающих появление новых социальных вызовов и угроз. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных исследований, включая публикации известных авторов (Горшков, 2020; К вопросу о некоторых аспектах …, 2021; Новая социальная реальность …, 2020; Прохоренко, 2023).
Начать свое размышление о взаимосвязи социального действия, поведения индивида и особенностей социальной реальности в новых реалиях нам представляется целесообразным с высказывания Конфуция: «Наблюдайте за поведением человека, вникайте в причины его поступков, приглядывайтесь к нему в часы его досуга. Останется ли он тогда для вас загадкой?»1. Это утверждение, на наш взгляд, раскрывает смысл социологического рассмотрения данной темы, согласно которому, как уже было отмечено, общественное поведение и социальная реальность являются неразрывными взаимозависимыми переменными. С одной стороны, последняя, образуемая общепринятыми принципами, законами и социальными представлениями предопределяет поведение индивидов в обществе, с другой – является продуктом социального взаимодействия микроструктур общества и межгруппового взаимодействия.
Анализ публикаций многих авторов подтверждает, что существуют различные точки зрения понимания сущности социальной реальности. Так, А.И. Субботин, исследуя понятие «социальная реальность» в концепциях таких основных социологов ХIХ–ХХ веков, как Г. Зиммель, Э. Гуссерль, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Мид, А. Шюц, У. Липпман, А. Турен, П. Бергер, Т. Лукман, приходит к выводу, что ее «следует рассматривать как субъектно-объектный концепт, как смысл, как продукт деятельности субъекта, как деятельность, как результат теоретической деятельности, как результат индивидуального социального самосознания, самопонимания и самоопределения» (Субботин, 2011).
По сути своей, социальная реальность представляет собой сложно структурированное бытие, для которого характерны разные уровни «взаимопроникающей элементарной и структурной организации». Она описывается различными моделями, включая натуралистические, деятельностные, идеалистические, феноменологические, интегрированной методологической моделью Дж. Ритцера, учитывающей взаимодействие макро-, микро-, объективного и субъективного уровней (Прохоренко, 2023).
Понятие «новая социальная реальность» появилось в гуманитарной сфере в 1990-х гг., однако до настоящего времени продолжает оставаться дискуссионным в научном сообществе. Следует заметить, что включение в его содержание характеристики «новая» свидетельствует об эволюции и злободневности данного концепта. Обратившись к пласту социологической литературы, можно увидеть, что исследователи используют его уже на протяжении нескольких десятилетий, обосновывая изменения социальных структур в кризисные и посткризисные этапы развития общества.
Вместе с тем представляется интересным, как исследователи операционализируют новую социальную реальность сегодня и как она влияет на поведение тех или иных социальных групп. Формирование ее связано с кардинальным изменением существующей реальности, характерной особенностью которой является преобразование отношений как в конкретном социуме, так и в мировом сообществе, в том числе через создание на глобальном уровне новых групп государств, что приводит к усилению социально-экономического неравенства стран (Зборовский, 2022). Например, новые реалии, связанные со специальной военной операцией на Украине, как раз и демонстрируют проявление таких процессов. В современных условиях возрастает роль стран БРИКС и ослабевает позиция государств G7. Доля первых в мировом ВВП составляет 26 %, по прогнозу этот показатель к 2050 г. может увеличиться до 50 %, в то время как доля государств G7 может сократиться до 20 %2.
Новая социальная реальность рассматривается с разных точек зрения: как преобразование общества, как новая социальность, как иной тип общественных отношений. Исследуя ключевые характеристики новой социальной реальности, Г.Е. Зборовский подчеркивает, что важной ее особенностью является дихотомический характер. Он выделяет характеристики, которые присущи новой социальной реальности в нашей стране (Зборовский, 2022). При этом акцентирует внимание на стремлении главы государства создать общественное устройство нового типа, обуславливающее укрепление государственного, культурно-ценностного и экономического сувере- нитета на основе духовно-нравственных ценностей и социальной справедливости, упрочение статуса России как мировой державы за счет устойчивого развития экономики и выход не позднее 2030 г. на 4 место в мире по объему ВВП, достижения технологического лидерства и вхождение в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, обеспечение национальной безопасности и развитие международного сотрудничества1.
Также аргументируется такая особенность российской социальной реальности в новых реалиях, как ее субъектность, предполагающая активное участие различных групп акторов в решении задач, связанных с преодолением санкций, ограничений и изолированности в политической, экономической, культурной и научной сферах (Зборовский, 2022).
В рамках теоретико-методологической интеграции применяется концепция дополненной социальной реальности, для которой характерно «взаимное проникновение и взаимообусловленность объективной реальности институтов, интерсубъективной реальности интеракций, интеробъективной реальности сетей, трансобъективной реальности потоков» (Иванов, 2024). Взаимообусловленность интеракций и сетевых структур проявляется в коммуникациях.
В качестве факторов формирования социальной реальности в новых реалиях выступают: глобализация, предполагающая усиление взаимосвязи национальных экономик, культурную унификацию, рост миграционных потоков и обуславливающая проблемы идентичности, культурного разнообразия и справедливости; цифровизация общества, индивидуализм и изменение ценностей, оказывающие значительное влияние на социальные процессы.
Результаты анализа социологической литературы по данной теме (Доброхлеб, 2022; Зборовский, 2022; Новая социальная реальность …, 2020) позволили выявить широкую палитру исследовательской интерпретации новой социальной реальности и сделать вывод о ее мозаичности, что отражает изменения во всех сферах жизни общества и подтверждается данными ВЦИОМ, полученными в рамках многочисленных исследований общественного мнения2: социальными – демографическое старение населения, изменение пропорции сочетания индивидуализма и коллективизма, пересмотр ценностного и статусно-ролевого наборов, виртуализация социального порядка, изменения каналов массовой коммуникации и т. д.; экономическими – финансовые кризисы, зависимость от глобализационных процессов, повсеместная цифровизация, изменение профиля профессий и портфеля компетенций, увеличение уровня неопределенности в экономике, пересмотр потребительских практик и т. д.; политическими – военно-политические конфликты, изменение уровня доверия политическим институтам, увеличение гражданской активности и т. д.; культурными – актуализация этнокультурных противоречий.
Такая системная трансформация неизбежно находит свое отражение в изменении установок общественного поведения отдельных индивидов и социальных групп и их взаимодействия со средой проживания вне зависимости от того, с какой позиции мы рассматриваем взаимосвязь социальной реальности и поведения индивидов: опираемся на детерминированность классической исследовательской схемы О. Конта, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса и др. или же на методологические принципы изучения феномена «социальная реальность», разработанные П. Бергером, Т. Лукманом, М. Вебером и др.
Изменяющаяся социальная реальность, обуславливающая преобразование практик социального поведения индивидов и появление новых паттернов поведения, формирующих актуальные законы и социальные представления, предопределяющие поведение индивидов, обладает деструктивным потенциалом относительно устойчивости социальной системы, способным привести ее базовые институты к дисфункциональности. В условиях трансформации общества механизм воспроизводства социальных практик нарушается, возрастает степень неопределенности, и, как следствие, изменяется уровень девиаций. Это обуславливает «взаимосвязь современной социальной реальности и антисоциального поведения, формирующегося в процессе интеграции индивида в социальную структуру» (Карепова и др., 2015).
Осмысление обозначенных выше индикаторов новой социальной реальности и результатов эмпирической верификации их влияния на поведение индивидов, позволяет сформулировать перечень угроз устойчивого развития общества: кризис идентичности, усиление социального неравенства, рост протестной активности, увеличение этнокультурных конфликтов. Данный список является лишь малым аспектом, требующим дальнейшего пристального внимания социологов с точки зрения как мониторинговых замеров, так и разработок прогностических концепций с целью недопущения сломов и расшатывания общества как системы, усиления социальных проблем и ухудшения качества жизни индивидов.
Таким образом, в научной литературе раскрывается многогранность и «сложноорганизо-ванность» понятия новой социальной реальности, представлена ее сущность и особенности, детерминанты и основные направления ее развития, а также обозначены вызовы и угрозы в соци-етальных, технологических и информационных рамках, анализируются «экстерналии» в новых реалиях, обуславливающие проблемы безопасности в области новых наукоемких технологий, трансформации рынка труда и профессиональных компетенций, манипулирования сознанием общества (К вопросу о некоторых аспектах …, 2021).
Дискурс о сущности и особенностях формирования новой социальной реальности, как уже отмечалось, не имеет согласованного мнения. Однако прослеживается выделение двух базовых, концептуально противоположных подходов. В рамках первого, основанного на классических исследовательских схемах, социальная реальность воспринимается как система, функционирующая по объективным законам, в рамках второго – как стихийно созданная и стремительно развивающаяся в результате «объективизации субъективного, разнонаправленного личного, коллективного действия и совокупных “хаотичных сил” общества» (Новая социальная реальность …, 2020). Исследовательские конструкты в первом случае нацелены на изучение макроструктурных подсистем общества и его динамических характеристик, в другом – на изучение микроструктурных подсистем общества, социального взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации (К вопросу о некоторых аспектах …, 2021). Актуальным и перспективным концептуальным подходом выступает комплексный подход, отражающий интеграцию классических исследовательских схем и новых подходов с учетом растущей скорости социетальных изменений, использования социологического инструментария и эмпирических методов, в рамках которого социальная реальность рассматривается как целостный объект, отражающий взаимосвязь и взаимодействие социальных элементов на микро- и макроуровнях, как результат действий, интересов, ценностей и мотиваций ее акторов (К вопросу о некоторых аспектах …, 2021).
Рассматривая ключевые детерминанты развития новой социальной реальности, следует сделать акцент на преемственности и взаимосвязи технологических и социетальных процессов и возрастании роли информационных, социальных, интеллектуальных технологий в ее формировании, связанных с ними вызовах и угрозах, включая проблемы безопасности использования наукоемких технологий, сознания и управления социумом. Это настоятельно требует дальнейшего осмысления общественных последствий развития современных технологий, оцениваемых «социальным самочувствием человека».
Закончить свое рассуждение представляется целесообразным выводом о стратегической значимости социологического ремесла для устойчивого развития общества, что всесторонне подтверждено в работах М.К. Горшкова, академика РАН, например, в его монографии «Есть такая профессия – общество изучать» (Горшков, 2020).