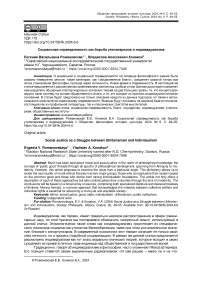Социальная справедливость как борьба утилитаризма и индивидуализма
Автор: Романовская Е.В., Конаков В.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
О моральной и социальной справедливости на поприще философского знания было сказано невероятно многое; такая категория, как «общественное благо», соединяет красной нитью все эпохи становления философии, проходя через Античность, Новое время и современность. В настоящей же статье предлагается к рассмотрению проблематика, взятая под особым углом. Данная дихотомия позволяет нам разделить обширный кластер морально-этических теорий на две большие группы: те, кто концептуализируют свою систему на основе общественного блага, и те, кто исходят из прочных индивидуалистических оснований. В статье будет предложено не только описание каждого из данных подходов, но также и актуализация их результатов через призму современности. Выводы будут основаны на широкой базе источников, состоящей как из профильной литературы, так и классических трактатов мыслителей.
Этика, социальная справедливость, благо, государство, индивидуализм, утилитаризм, общественные институты
Короткий адрес: https://sciup.org/149145557
IDR: 149145557 | УДК: 172 | DOI: 10.24158/fik.2024.6.6
Текст научной статьи Социальная справедливость как борьба утилитаризма и индивидуализма
,
Индивидуализм, как термин, имеет предельно широкое распространение в сфере гуманитарных наук, по этой причине мы постараемся обозначить конкретный смысл, используемый в данной статье. Этимологически такое слово как «индивидуализм» проистекает из специфического лексикона социалистов-утопистов Великобритании, имея при этом уничижительное значение, близкое с оппортунизмом. В современной психологии этот термин означает не только свойство личности, но и процесс (подобный социализации). В рамках же данной статьи предлагается рассмотреть индивидуализм как тот класс морально-этических теорий, которые исходят в своих суждениях из примата личных прав индивида над общественной и государственной волей.
Традиционно, говоря об индивидуализме в философии, часто упоминают Макса Штирнера. Его позиция славится своим выраженным радикализмом: «Я сам решаю – имею ли я на что-
нибудь право; вне меня нет никакого права. То, что мне кажется правым, – и есть правое» (Штир-нер, 2017: 174).
Однако подобная позиция не имеет для нашей темы практической значимости, ибо радикальный эгоизм (или индивидуализм в подобной трактовке) лишает нас возможности говорить об общественном благе. Это признавал и сам М. Штирнер: «Моя собственная воля – губитель государства, поэтому оно клеймит ее как “своеволие”. Собственная воля и государство – смертельно враждебные силы, между которыми невозможен вечный мир» (Штирнер, 2017: 182).
На данном этапе важно отметить, что положения морального субъективизма могут значительно отличаться. В рамках теоретической базы данного подхода моральные факты могут зависеть напрямую от характера и целей как отдельно взятого индивида, так и Бога (если мы говорим про теорию божественных команд или идеального наблюдателя). Важно отличать моральный индивидуализм, подобный тому, который воспевается М. Штирнером, и культурный субъективизм, где источником моральных фактов уже являются культура, общество, религия. То есть именно те социальные институты, которые не зависят напрямую от моральной позиции конкретного индивида.
Как мы могли убедиться ранее, индивидуализм в трактовке М. Штирнера не подходит к заявленным целям нашего исследования. Именно поэтому за основу индивидуалистической идеологии мы возьмем суждения Джона Локка. Индивидуализм, существующий на страницах его работ, во многом отличается от других трактовок данного термина. Подобную позицию занимала и Элен Мейксинс Вуд. В своей работе «Mind and politics; an approach to the meaning of liberal and socialist individualism» она отметила: «Существуют доктрины индивидуализма, которые противостоят локковскому индивидуализму, а нелоккианский индивидуализм может включать социа-лизм»1 (Wood, 1972: 7).
Также можем обратиться к словам знаменитого австрийского экономиста и философа Фридриха фон Хайека, который подчеркивает важность подобной дихотомии: «Истинный индивидуализм – это, безусловно, не анархизм, являющий собой всего лишь еще один плод рационалистического псевдоиндивидуализма, которому истинный индивидуализм противостоит. Он не отрицает необходимости принудительной власти, но желает ограничить ее – ограничить теми сферами, где она нужна для предотвращения насилия со стороны других, и для того, чтобы свести общую сумму насилия к минимуму» (Хайек, 2012: 21).
Данный мыслитель часто обращался к конкретным историческим примерам. Так, он неоднократно упоминает Французскую революцию как пример «рационалистического» (по образу учений Руссо и Декарта) индивидуализма, который может перерасти в свою противоположность – социализм или коллективизм. Ф. фон Хайек отмечает, что одним из результатов Французской революции стало стремление к уничтожению всех промежуточных социальных образований и ассоциаций (цехов, гильдий, местных общин и т. д.), что противоречит принципам истинного индивидуализма.
Это было связано с представлением о том, что в идеальном обществе должны существовать только отдельные индивиды и государство, а любые промежуточные структуры рассматривались как препятствия на пути к созданию такого общества. Стремление к централизованному управлению и навязыванию единой шкалы ценностей привело к концентрации власти в руках государства.
Ф. фон Хайек считает, что Французская революция наглядно демонстрирует опасность рационалистического подхода к обществу, который, стремясь к свободе и благосостоянию индивидов, может привести к тирании и упадку. Он противопоставляет ему истинный индивидуализм, основанный на признании ограниченности человеческого разума и ценности спонтанного, стихийного порядка, который возникает в результате взаимодействия свободных индивидов.
Именно поэтому позиция Дж. Локка относительно индивидуализма представляется нам наиболее подходящей ввиду того, что он постулировал лишь защиту (а не полное избавление) индивидуальной автономии от обязательств перед формальными социальными институтами – государством или религией.
В своей работе «Индивидуализм и экономический порядок» Ф. фон Хайек относит Дж. Локка к числу мыслителей, которые стояли у истоков развития современного индивидуализма. Он указывает на то, что именно с Дж. Локка началось формирование той интеллектуальной традиции, к которой принадлежит и отстаиваемый им истинный индивидуализм. Дж. Локк был одним из первых философов, которые разработали и обосновали концепцию естественных прав человека, включая право на жизнь, свободу и собственность. Эта концепция стала одним из краеугольных камней индивидуалистической философии.
«Антирационалистический подход, в соответствии с которым человек не высокорациональное и непогрешимое, а достаточно иррациональное и подверженное заблуждениям существо, индивидуальные ошибки которого корректируются только в ходе общественного процесса и которое стремится создать самое лучшее из очень несовершенного материала, представляет собой, вероятно, наиболее характерную черту английского индивидуализма» (Хайек, 2012: 11).
Таким образом, Дж. Локк не изолирует морально-этическую реальность в релятивистских границах одного индивида, а помещает категорию личности в государствообразующую идеологию. Мы можем обратиться к его произведению «Два трактата о правлении», чтобы подтвердить вышесказанное: «... Человек рождается ... с правом на полную свободу и неограниченное пользование всеми правами и привилегиями естественного закона ... он по природе обладает властью не только охранять свою собственность, т. е. свою жизнь, свободу и имущество, от повреждений и нападений со стороны других людей, но также судить и наказывать за нарушение этого закона других...» (Локк, 1988: 208).
Далее Дж. Локк указывает границы взаимоотношения государства и общественности: «... власть общества, или законодательного органа, созданного людьми, никогда не может простираться далее, нежели это необходимо для общего блага; эта власть обязана охранять собственность каждого...» (Локк, 1988: 212).
Дж. Локк также допускает возможность принятия некоторых «жертв» у алтаря общественного блага: «Итак, политической властью я считаю право создавать законы, предусматривающие смертную казнь и соответственно все менее строгие меры наказания для регулирования и сохранения собственности, и применять силу сообщества для исполнения этих законов и для защиты государства от нападения извне – и все это только ради общественного блага» (Локк, 1988: 263).
И хотя у Дж. Локка есть понятие общественного блага, где государство должно стремиться к обеспечению мира, безопасности и процветанию всех членов общества, всё же в основе своей его позиция (как и взгляды всех представителей классического либерализма) строится вокруг свободы и автономии индивида, а также охраны частной собственности, которая проистекает из природы наших естественных прав.
Именно подобной трактовке социальной справедливости и противостоит классический утилитаризм, автором которого принято считать И. Бентама. Несмотря на то, что в XX в. на территории СССР его труды ассоциировали с культивированием «мелкобуржуазной этики», мы можем в дальнейшем убедиться, что сама утилитаристская доктрина достаточно близка к идеям социализма по ряду важных пунктов.
Центральной нормативной позицией, из которой исходит всё учение И. Бентама, является следующая максима: «Нужно поступать так, чтобы приносить наибольшее счастье для наибольшего числа людей» (Бентам, 1867: 9).
На первый взгляд, данная формулировка не является прямым антагонизмом индивидуализма. В конце концов, как мы говорили ранее, Дж. Локк тоже рассматривал понятие общественного блага, однако на практике данные методы разительно отличаются.
Государство, построенное на принципе локкианского индивидуализма, хоть и стремится к общественному благу и социальной справедливости, но оно способно принимать решения вопреки общественному мнению. Для подобной идеологии сохранение прав меньшинства, индивида и институтов могут быть важнее порыва общественного недовольства и перманентных страданий.
В качестве примера подобных реформ мы можем обратиться к истории США, а именно введению 19-ой поправки в конституцию в конце XIX – начале XX в. Именно данная поправка обеспечивала женщинам право голоса, и она была принята правительством, несмотря на общественное негодование и социокультурные нормы того времени. Активисты и большая часть правительства считали, что отказ от предоставления женщинам права голоса противоречит принципам равенства и демократии, на которых основаны Соединенные Штаты Америки.
Исходя из данного примера и тезиса, может сложиться впечатление, что предлагаемая в нашем исследовании позиция расходится с философией упомянутого ранее Фридриха фон Хайека. Ведь данный австрийский мыслитель считал, что самоорганизация общества в моменте эффективнее государственных централизованных методов. Мы же хотим обратить внимание, что, согласно локкианским принципам, центральной позицией любой государственной политики должно быть сохранение прав индивида в самом широком и комплексном смысле этого слова. Иногда общество готово добровольно нарушить или изменить институты, которые гарантируют подобные права, и государство должно устоять перед соблазном следовать данной политической экзальтации.
Ещё одним автором, который подробно рассматривал вопрос массовой истерии, был австрийский учёный Элиас Канетти. Он описывает панику в театре как пример распада массы, вызванного страхом перед огнем. В такой ситуации индивидуальный страх каждого человека усиливается присутствием других, страх превращается в энергию отталкивания, и масса начинает бороться сама с собой, мешая собственной эвакуации. Эта вполне жизнеподобная метафора невероятно точно описывает принцип, который мы стремимся проиллюстрировать в предлагаемой статье.
Э. Канетти сравнивает поведение людей во время инфляции с массовым бегством, вызванным обесцениванием денег. Чувство собственного обесценивания подталкивает людей к поиску тех, кто ещё менее значим, чем они сами, что ведёт к разжиганию ненависти, дискриминации и агрессии, как это было в Германии по отношению к евреям. Это очередной пример того, как общественные массы, гонимые огнём эмоций, требуют неправомерной жатвы.
К тому же, если каждый индивид, составляющий общественную массу, не осознаёт столь важных принципов индивидуализма, то у власти появится негативная возможность манипулировать сознанием общества. Это замечал и Э. Канетти. Данный мыслитель подробно разбирает шиитский праздник Мухаррам как яркий пример религии оплакивания, где центральную роль играет трагедия Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Смерть Хусейна в битве при Кербеле интерпретируется шиитами как мученичество и жертва во имя людей.
Во время Мухаррама шииты собираются в массы, чтобы оплакивать Хусейна и его страдания. Они воспроизводят его мученическую смерть в театральных представлениях и процессиях, впадая в экстаз коллективного горя. Кульминацией праздника становится «День крови», где толпа, охваченная религиозным неистовством, практикует самоистязание и даже самоубийство. Э. Канетти видит в Мухарраме не только проявление религиозного фанатизма, но и пример того, как власть использует коллективное чувство вины и страха, чтобы укрепить свое господство. Шиитские имамы, духовные лидеры общины, проповедуют о том, что плач по Хуссейну – это высшая религиозная заслуга. Таким образом, они подпитывают чувство вины верующих за смерть мученика и устанавливают свою власть как посредников между людьми и Богом.
По мнению Э. Канетти, масса оплакивания является особенно удобным объектом для манипуляции со стороны власти. Люди, собравшиеся в массу, подвержены внушению и готовы безоговорочно подчиняться приказам своих лидеров. В этом смысле негативное влияние толпы может приводить к принятию властью необдуманных и даже жестоких решений.
Масса, по Э. Канетти, – это состояние, в котором страх перед прикосновением снимается, все дистанции ликвидируются, и люди чувствуют себя равными. Индивидуализм, следовательно, противоположен массе. Массовое состояние переживается как освобождение от тягот индивидуализма, но при этом оно преходяще и несет в себе опасность распада, вред которого и пытается предотвратить Дж. Локк.
В книге «Масса и власть» приводится еще один весьма показательный исторический пример. Э. Канетти обращается к событиям, предшествующим штурму Бастилии, которые обычно не связывают с началом революции. Речь идет о так называемой «заячьей резне».
В мае 1789 г. в Версале собрались Генеральные штаты. Они обсуждали вопрос об отмене феодальных прав, к которым относилось и право дворянской охоты. 10 июня, за месяц до штурма Бастилии, Камилл Демулен, участвовавший в обсуждении в качестве депутата, писал своему отцу: «Бретонцы временно отменили некоторые из пунктов, содержащихся в списке их претензий. Они охотятся на голубей и дичь. Полсотни молодых людей учинили здесь неподалеку беспримерное побоище зайцев и кроликов. На Сен-Жерменской равнине они убили прямо на глазах лесничих 4–5 тысяч штук дичи» (Канетти, 1997: 68).
Далеко не всегда в истории подобное исступление голодной толпы выливается в насилие над животными, памятниками архитектуры и т. д. Часто жертвами необузданных волн страсти становятся беззащитные люди. Именно поэтому локкианский индивидуализм делает акцент на целостности и силе общественных институтов, которые находятся в гармонии между индивидом и общественным благом.
Развивая тему индивидуализма, Ф. фон Хайек не скрывал, что в своих суждениях он вдохновлялся философией Адама Смита, а точнее, его концепцией «невидимой руки» рынка. «Это великая тема Джозайи Такера и Адама Смита, Адама Фергюсона и Эдмунда Бёрка, великое открытие классической политической экономии, ставшее основой нашего понимания не только экономической жизни, но и большинства подлинно социальных явлений» (Хайек, 2012: 10). Данная метафора описывает то, как индивиды, преследуя собственные интересы, невольно способствуют общественному благу. Ф. фон Хайек подчеркивает, что этот механизм работает благодаря системе цен, которая передает информацию о потребностях и возможностях и позволяет людям координировать свои действия без необходимости централизованного управления.
Однако Ф. фон Хайек также отмечает, что в XIX в. некоторые экономисты, называвшие себя последователями А. Смита, не вполне верно интерпретировали его идеи и впали в ошибку рационалистического индивидуализма. Они начали предполагать, что человек всегда действует строго рационально, а рынок автоматически обеспечивает гармонию интересов. Ф. фон Хайек же подчеркивает, что человек часто действует иррационально и задача общества – создать такие институты, которые позволили бы использовать эти ограниченные знания и способности наилучшим образом.
«Главнейший принцип, лежащий в основании индивидуалистической системы, состоит в том, что она использует всеобщее признание некоторых универсальных принципов как средство созда- ния порядка в общественных делах... Принципы – это средство предотвращать столкновения конфликтующих устремлений, а не набор фиксированных целей. Наше подчинение общим принципам необходимо, поскольку в своей практической деятельности мы не можем исходить из полного знания и исчерпывающей оценки всех ее последствий. Покуда люди не обладают всеведением, единственный способ дать свободу индивиду – это очертить с помощью таких общих правил ту сферу, в пределах которой решение будет принадлежать ему самому» (Хайек, 2012: 24).
Ф. фон Хайек буквально манифестировал: «Мы должны думать о мнениях, которые следует распространять, чтобы сохранить или восстановить свободное общество, а не о том, что практически осуществимо в данный момент» (Хайек, 2012: 110).
Утилитаризм же исходит из логики совершенно обратной: если общественная ситуация требует принятия популярных, но нелогичных решений, данная концепция будет за её исполнение, ведь главный критерий – калькуляция блага и страданий всего общества, а не права индивида и общественные институты. Однако здесь важно отметить, что утилитаризм в представлении С. Милля сильно отличался от И. Бентама. Данный мыслитель уделял большое внимание тому, что удовольствие бывает разного уровня, а также и то, что многие решения имеют неочевидные долговременные последствия.
Конечно, стоит отделять идеи И. Бентама от его собственной, личной позиции, тем более что в данной статье мы рассматриваем социальную справедливость, которая по умолчанию подразумевает коллективное (государственное) управление благом. И утилитаризм через данную призму будет действительно часто и закономерно игнорировать права меньшинств или, тем более, отдельно взятых индивидов в пользу общего блага.
Сам И. Бентам писал в трактате «Введение в основания нравственности и законодательства», что «каждый делает сам себя судьей своей пользы; это так, и это должно быть; иначе человек не был бы разумно действующим существом» (Бентам, 1867: 31). Однако в масштабах государственного управления данный принцип невозможно взять на вооружение, ибо любые решения там коллективны, хоть и в разной степени. Государство, даже современная представительная демократия, всегда будет стремиться оперировать благом большего масштаба.
Кроме того, из слов самого же И. Бентама не следует непреклонное сохранение прав индивидов и меньшинств: «Общество есть искусственное тело, состоящее из индивидуальных членов, составляющих его. Что же такое есть в этом случае интерес общества? Сумма интересов отдельных членов, составляющих его» (Бентам, 1867: 9). Так что, следуя принципам утилитаризма, мы имеем дело в первую очередь с суммой, а не с ее частями.
«Общая цель, которую имеют или должны иметь все законы, есть вообще увеличивать целое счастье общества и поэтому в первую очередь исключать сколько возможно все, что стремится уменьшать это счастье; другими словами, исключать вред» (Бентам, 1867: 221).
Чтобы продемонстрировать классический подход бентамовского утилитаризма, обратимся, для сохранения целостности повествования, к истории тех же Соединенных Штатов Америки.
Во время Второй мировой войны президент Франклин Рузвельт подписал Указ Президента 9066, который предоставил право властям на вынесение приказов об эвакуации и интернировании американских граждан японского происхождения, живших на территории США. Этот Указ был принят в ответ на нападение Японии на Перл-Харбор и создал возможность для правительства США осуществить массовое выселение и интернирование около 120 тыс. японцев и японских американцев, проживавших на западном побережье страны, без судебного разбирательства и уважительных оснований.
Это действие грубо нарушило права индивидов на свободу, защиту от произвольных арестов и лишило их доступа к судебной защите. Подобное решение стало ярким примером, когда права индивида были пожертвованы во имя общественной безопасности и национальной целостности (то есть общественному благу).
И. Бентам ставил безопасность общества и предотвращение вреда превыше всего. В условиях войны, когда страх перед шпионажем и саботажем был высок, интернирование могло быть воспринято как мера предосторожности для обеспечения безопасности общества, хотя и с серьезными издержками для определенной группы людей.
«Удовольствия и их безопасность есть цель и единственная цель, которую должен иметь в виду законодатель: это – единственный стандарт, с которым каждое отдельное лицо, насколько это зависит от законодателя, должно бы быть заставлено сообразовать свое поведение» (Бентам, 1867: 35).
Также И. Бентам признавал важность общественного мнения и его влияние на эффективность законов. В условиях военного времени уровень общественной тревоги и недоверия к японским американцам мог быть крайне высоким, что привело бы к беспорядкам и насилию. Интернирование, как временная мера, могло способствовать предотвращению такого вреда и поддержанию общественного порядка.
Джон Стюарт Милль также говорил о том, что утилитаризм И. Бентама в погоне за удовлетворением мнения большинства может с легкостью нарушить права меньшинств. И далеко не всегда меньшинство – это 5 или 10 % от общества (что уже является десятками миллионов людей во многих странах.), а иногда и 49 % могут стать таковым. В подобном случае масштабы указанной проблемы будет тяжело игнорировать не только в теории, но и на практике.
Единственное предположение, которое может сгладить позицию утилитаризма в упомянутом выше примере, – это допущение того, что И. Бентам, вероятно, настаивал бы на том, чтобы интернирование было временной мерой, ограниченной периодом войны, а интернированным была предоставлена компенсация за потерю свободы и собственности после военных действий. Но здесь вполне очевидна проблема эквиваленции компенсаций и ущерба. Могут ли деньги, предоставленные сильно позднее, компенсировать искалеченные человеческие судьбы?
В завершение данной статьи стоит сказать, что социальная справедливость, какой бы путь она ни избрала, должна учитывать долгосрочные последствия, которые, в свою очередь, охраняются стабильными и надежными социальными институтами (защищающими, в том числе, права и свободы индивидуумов). Государственные решения, принятые на волне общественного негодования, паранойи или истерии, зачастую приводят к негативным последствиям для общественного блага, разрушая столпы государственного устройства.
Однако законы и реформы, принятые от обратного принципа, где во главе принятия решений стоит благо меньшинства – представляют собой еще более чудовищную ошибку. Поэтому правителям и правительствам стран приходится быть «львом» и «лисицей», адаптируясь к меняющимся обстоятельствам, как и завещал потомкам вечный голос Никколо Макиавелли.
Завершим повествование цитатой Фридриха фон Хайека: «В самом деле, великий урок, который даёт нам на этот счёт философия индивидуализма, состоит в том, что, хотя и нетрудно разрушить добровольные формирования, составляющие незаменимую опору свободной цивилизации, нам может оказаться не по силам сознательно воссоздать такую цивилизацию после того, как её фундамент был разрушен» (Хайек, 2012: 30).
Список литературы Социальная справедливость как борьба утилитаризма и индивидуализма
- Бентам И. Избранные сочинения. Т. 1. Введение в основания нравственности и законодательства. СПб., 1867. 678 c.
- Канетти Э. Масса и власть. М., 1997, 527 с.
- Локк Дж. Сочинения: в 3 т. М., 1988. Т. 3. 668 с.
- Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. М., 2012. 512 с.
- Штирнер М. Единственный и его собственность. М., 2017. 494 с.
- Wood E.M. Mind and politics: An approach to the meaning of liberal and socialist individualism. L.A., 1972. 192 p.