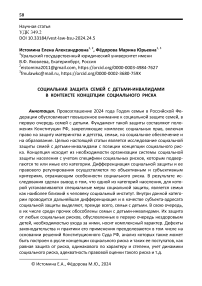Социальная защита семей с детьми-инвалидами в контексте концепции социального риска
Автор: Истомина Е.А., Фдорова М.Ю.
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право
Статья в выпуске: 4 (24), 2024 года.
Бесплатный доступ
Провозглашение 2024 года Годом семьи в Российской Федерации обусловливает повышенное внимание к социальной защите семей, в первую очередь семей с детьми. Фундамент такой защиты составляют положения Конституции РФ, закрепляющие комплекс социальных прав, включая право на защиту материнства и детства, семьи, на социальное обеспечение и на образование. Целью настоящей статьи является исследование социальной защиты семей с детьми-инвалидами с позиции концепции социального риска. Концепция исходит из необходимости организации системы социальной защиты населения с учетом специфики социальных рисков, которым подвергаются те или иные его категории. Дифференциация социальной защиты и ее правового регулирования осуществляется по объективным и субъективным критериям, отражающим особенности социального риска. В результате исследования сделан вывод о том, что одной из категорий населения, для которой устанавливаются специальные меры социальной защиты, является семья как наиболее близкий к человеку социальный институт. Внутри данной категории проводится дальнейшая дифференциация и в качестве субъекта-адресата социальной защиты выделяют, прежде всего, семьи с детьми. В свою очередь, в их числе среди прочих обособлены семьи с детьми-инвалидами. Их защита от любых социальных рисков, обусловленных в первую очередь нездоровьем детей, необходимостью ухода за ними, носит комплексный характер. Дефекты законодательства и практики его применения преодолеваются в том числе на основании решений Конституционного Суда РФ, анализ которых также может быть построен в русле концепции социального риска и таких ее постулатов, как равная защита от риска, одинакового по характеру и степени, учет динамики социального риска, адекватность правовой оценки такого риска и т.д.
Социальный риск, социальная защита, социальное обеспечение, семьи с детьми-инвалидами, решения конституционного суда рф
Короткий адрес: https://sciup.org/142243975
IDR: 142243975 | УДК: 349.2 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2024.24.5
Текст научной статьи Социальная защита семей с детьми-инвалидами в контексте концепции социального риска
Istomina Elena Aleksandrovna1, 2, Fedorova Marina Yurievna1, 3 1Ural State Law University named after V.F. Yakovlev, Ekaterinburg, Russia , , Х
Введение. Современная система социальной защиты населения начала формироваться в нашей стране под влиянием кардинальных политических и социально-экономических преобразований, которые стали происходить на рубеже 1980–1990-х годов. Этот процесс был непростым, поскольку обществу предстояло выработать новые представления о социальной солидарности и ее параметрах в условиях перераспределения ответственности за благополучие личности между государством и гражданином. На заре рыночных реформ считалось, что они открывают массу возможностей для самореализации человека в сфере труда и предпринимательства, однако это было верно лишь отчасти, в силу чего возникла необходимость создания новых и адаптации к изменившимся условиям прежних механизмов защиты от социальных рисков.
Этот процесс потребовал конституционного обоснования, и в Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г., впервые был зафиксирован в качестве одной из основ конституционного строя принцип социального государства. Возлагая на государство обязанность по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан, ст. 7 Конституции РФ в ч. 2 закрепляет открытый перечень гарантий социальной защиты. Наряду с охраной труда и здоровья людей, установлением гарантированного минимального размера оплаты труда в нем отражены категориальные формы поддержки, адресованные семьям, имеющим детей, инвалидам и пожилым гражданам, а также отдельные виды социального обеспечения (социальное обслуживание, государственные пенсии, пособия).
Кроме того, Конституция закрепила комплекс социальных прав, включая право на защиту материнства и детства, семьи (ст. 38), на социальное обеспечение (ст. 39), охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), образование (ст. 43). Перечисленные и ряд иных конституционных прав непосредственно направлены на реализацию принципа социального государства.
Конституционные поправки 2020 г. дополнили перечень конституционно-правовых средств достижения целей достойной жизни и свободного развития людей. В Конституции были закреплены основные начала форми- рования пенсионной системы и организационно-правовые формы социального обеспечения, конституционные гарантии индексации пенсий и других социальных выплат (ст. 76, ч. 6 и 7 ст. 75.1), а также специальные конституционные установления, адресованные отдельным категориям граждан, нуждающихся в социальной защите (детям, инвалидам). К числу такого рода новелл относятся, к примеру, положения ч. 4 ст. 67.1 о детях как важнейшем приоритете государственной политики России; п. «ж» ч. 1 ст. 72 о создании условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях; п. «в.2» ч. 1 ст. 114, возлагающей на Правительство РФ обеспечение функционирования системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальной интеграции без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни.
Социальная защита населения и дифференциация ее правового регулирования в контексте концепции социального риска. Группа конституционных поправок социальной направленности, касающихся отдельных категорий населения, заслуживает более подробного обсуждения с позиции концепции социального риска. Названная концепция выступает как интегративное научное представление о социальном риске, включая его дефиницию, юридически значимые этапы хронологического и содержательного развертывания, виды, классификацию, исторический контекст развития и современное состояние, способы защиты от такого риска и правовое регулирование возникающих при этом отношений. Концепция основана на объективно-субъективном понимании социального риска как вероятности возникновения в отношении любого человека внешнего обстоятельства (фактора риска), порождающего событие или состояние (причину риска), которое приводит к неблагоприятным последствиям (невозможности удовлетворения жизненно важных потребностей). Такая вероятность должна быть формализована в нормах права, осознана субъектом риска и заявлена в целях реализации права на защиту от таких последствий посредством предоставления социального обеспечения [1, c. 11–13].
Защита от социального риска может осуществляться на разных этапах его развертывания, предполагая в зависимости от этого либо предупреждение возникновения социального риска (например, посредством оказания медицинской помощи в порядке профилактики инвалидности, реализации мероприятий по охране труда и т. п.), либо воздействие на само событие социального риска (как в случае трудоустройства лица, зарегистрированного в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), либо компенсацию неблагоприятных последствий такого события (в частности, путем назначения пособия по безработице лицу, которое признано безработным). Во всех подобных случаях следует исходить из характера и степени социального риска, которому подвергается человек, что может достигаться посредством индивидуализации защиты от такого риска (например, при разработке и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, заключении социального контракта о предоставлении государственной социальной помощи и в других аналогичных ситуациях).
Однако индивидуализации предшествует дифференциация социальной защиты, призванная обеспечить учет специфики социального риска, которому подвержены определенные категории граждан, социально-демографические или профессиональные группы. Речь может идти о более высокой степени вероятности наступления у таких категорий лиц общих социальных рисков (допустим, безработицы, инвалидности и т. п.) либо о неких специальных рисках, напрямую обусловленных определенными особенностями правового статуса (например, сиротством), состоянием здоровья (в частности, наличием орфанного заболевания) и иными подобными обстоятельствами.
Значимость категориальных форм социальной защиты, на наш взгляд, заключается в том, что они представляют собой модель защиты от социальных рисков, адресованную определенным социальным группам. Тем самым сообразно общим, единым подходам обеспечивается дифференциация правового регулирования социальной защиты, предполагающая, в частности, установление специальных мер социальной поддержки или специальных условий предоставления общих мер [2, c. 49].
При определении категорий граждан, для которых устанавливаются специальные меры социальной защиты, применяются объективные и субъективные критерии дифференциации. Объективные могут быть связаны, в частности, с особенностями профессиональной деятельности (военной или иных видов государственной службы, медицинской, педагогической и т. п.), климатических и прочих условий проживания и работы людей (например, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в зонах радиоактивного загрязнения и т. д.). Субъективные критерии дифференциации предопределены особенностями субъекта – адресата социальной защиты: возрастом, состоянием здоровья, семейным положением и т. п.
Не умаляя значимости объективных критериев дифференциации, следует подчеркнуть, что в контексте концепции социального риска именно субъективные критерии надлежит рассматривать как основные. Они непосредственно характеризуют человека как субъекта социального риска и позволяют оценивать особенности такого риска в отношении каждой категории лиц, обособленной по таким признакам. Именно они первоначально отражают такие признаки человека, которые не зависят от политического строя или экономической системы (старение, репродуктивность и др.). В силу этого субъективные критерии имеют первичный характер, обладают аксиологическим потенциалом, а их ведущая роль согласуется с конституционной нормой о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ).
Во взаимосвязи с положениями ст. 7 Конституции РФ это свидетельствует о том, что вопросам благополучия людей придается характер стратегической цели Российской Федерации, ввиду чего становится очевидной необходимость определить не только основные этапы, но также критерии оценки ее достижения и параметры, которым должна соответствовать социальноэкономическая система в каждый конкретный отрезок времени. Этому может способствовать стратегическое планирование, которое охватывает целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование социальноэкономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, что, в свою очередь, предполагает разработку научно обоснованных представлений о направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития1. Указом Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 в числе национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. было названо сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка се-мьи2. Следовательно, при определении национальных целей развития страны из всех возможных категорий адресатов социальной поддержки, обособленных по субъективному критерию (лица пожилого возраста, инвалиды и др.), указана только семья.
Семья как субъект защиты от социальных рисков. Очевидно, это обусловлено статусом семьи как наиболее близкого к человеку социального института, обеспечивающего его воспроизводство, социализацию, личностное благополучие [3, c. 81]. Поскольку для семьи характерно наличие норм, социальных установок, ценностей (включая ценность брака, родительства, ценности, связанные с родством, такие как наличие родственников, бережное отношение и взаимопомощь между членами семьи), реализация присущих данному социальному институту функций обеспечивает преемственность по- колений, сохранение общечеловеческих ценностей [4, с. 64] и в разных типах семей может содействовать достижению целей социальной защиты лиц пожилого возраста (родителей, бабушек, дедушек, других пожилых родственников), а также инвалидов, связанных с семьей отношениями родства или свойства.
Исходя из приведенных характеристик семьи как социального института, в социальной психологии за ней признается субъектность, то есть способность к совместному действию для достижения своих целей и задач. По скольку зачастую э тот процесс облекается в правовую форму, семья может признаваться субъектом права, причем реализуя свою субъектность и правосубъектность в правовых связях различной отраслевой принадлежности [5].
Несмотря на то что вопрос о правосубъектности семьи в некоторых отраслевых науках (включая право социального обеспечения) является дискуссионным, все больше авторов склоняются к утвердительному ответу на него. В обоснование такого подхода Е.Г. Азарова ссылается на международные акты, в которых право на достаточный жизненный уровень и на социальное обеспечение предоставляется человеку и его семье, что свидетельствует о необходимости признания семьи в качестве самостоятельного субъекта права социального обеспечения [6, с. 74]. Т.С. Гусева полагает, что семья должна признаваться субъектом права, когда удовлетворяются общие интересы всех членов семьи. Признание за семьей правосубъектности отвечает публичным интересам государства, связанным с сохранением и всемерной поддержкой института семьи [7, c. 9].
Этому способствует стремительное развитие законодательства о социальной защите семьи, прежде всего, воспитывающей детей. Так, многие виды социального обеспечения (в частности, государственная социальная помощь, отдельные виды пособий, связанных с воспитанием детей) предоставляются семье с учетом среднедушевого совокупного дохода. Материнский (семейный) капитал в ряде случаев направлен на компенсацию социальных рисков всех членов семьи, а не только матери, на которую (по общему правилу) оформляется соответствующий сертификат. Наиболее ярким примером здесь служит направление средств такого капитала на улучшение жилищных условий семьи3 1 .
С точки зрения концепции социального риска семья выступает субъектом управления такими рисками, передавая часть этих рисков институциональным субъектам – государству, муниципальным образованиям, благо- творительным организациям – и являясь в таких правоотношениях адресатом соответствующих социальных предоставлений. Однако семья может также распределять такие риски между своими членами, в частности при решении вопроса о том, кто из родителей и в каком порядке будет использовать отпуск по уходу за ребенком, кто будет сопровождать ребенка в образовательные или медицинские организации и т. п.
Выполняемые человеком социальные роли члена семьи (родителя, усыновителя, совершеннолетнего трудоспособного ребенка и т. п.) обусловливают наделение его в составе семьи свойством субъекта управления социальными рисками в рамках разных моделей социальной защиты, как правовых, когда речь идет о возложении на родителей юридической обязанности по воспитанию детей, осуществлению заботы и ухода за ними, а также в иных ситуациях, в частности обусловливающих возникновение алиментных обязательств, так и внеправовых, которые можно именовать партикулярными, так как они не предполагают юридизацию соответствующих обязанностей субъектов.
Указанные особенности семьи как социального института и как субъекта управления социальными рисками, будучи теоретически обоснованы в разных отраслях научного знания (праве, экономике, социологии, психологии и др.), не могут не учитываться при осуществлении государственной политики в социальной сфере. Это согласуется с Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденными Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809, в которых одной из таких ценностей названа крепкая семья. Достижению обозначенных целей призвана способствовать и система мероприятий, проводимых в соответствии с Указом Президента РФ от 22 ноября 2023 г. № 8754 1 , которым 2024 год объявлен Годом семьи.
При всем многообразии типов и видов семей в современных условиях приоритет в сфере социальной защиты отдается семьям с детьми. В целях наиболее полной защиты от социального риска внутри данной категории осуществляется дальнейшая дифференциация по различным основаниям. Например, в зависимости от количества детей в семье выделяют многодетные семьи; семьи, в которых рожден или усыновлен второй ребенок, что дает право на дополнительные меры государственной поддержки, и т. д. Исходя из характера правовой связи с детьми, можно говорить о кровной семье, в которой ребенка воспитывают биологические родители, и замещаю-
4 О проведении в Российской Федерации Года семьи : Указ Президента щей, в которой родители не связаны с ребенком биологическим родством или их функции выполняют лица, на иных основаниях наделенные статусом законных представителей ребенка (семьи усыновителей, опекунов или попечителей, приемная семья). С учетом состояния здоровья ребенка выделяют семьи, имеющие детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого вида таких семей устанавливается система мер социальной защиты, включающая меры общего (пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, по уходу за ребенком и др.) и специального (в частности, досрочное назначение страховой пенсии по старости женщинам в связи с рождением и воспитанием трех и более детей) характера.
Безусловно, каждая семья с детьми заслуживает поддержки со стороны государства и общества. Однако семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, требуют особого внимания. В системе защиты от социальных рисков им должны устанавливаться особые выплаты, услуги и льготы, которые обусловлены необходимостью ухода за таким ребенком, проведения реабилитационных мероприятий, направленных на компенсацию ограничений жизнедеятельности ребенка и максимально возможного обеспечения его полноценной жизни и развития.
Следует отметить, что с учетом двухуровневой структуры системы социальной защиты, исходящей от государства, значительный вклад в реализацию государственной социальной политики, в том числе в отношении разных категорий граждан, обособленных по субъективному критерию, включая семьи, вносят субъекты Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации не только устанавливают региональные меры социальной защиты (в дополнение к федеральным либо безотносительно к ним – исходя из потребностей социальной политики конкретного региона) и реализуют их за счет собственных финансовых ресурсов, но и принимают политические решения, направленные на укоренение в общественном сознании конституционных ценностей социальной солидарности. Ярким примером такого рода политических решений, получивших правовое оформление, является Указ Главы Республики Башкортостан от 25 декабря 2023 г. № УГ-117351, которым 2024 год был объявлен в данном субъекте Российской Федерации Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. В орбиту проводимых в соответствии с этим указом ме- роприятий, наряду с другими категориями, для которых ввиду ограниченных возможностей здоровья характерны особые потребности (в частности, для инвалидов трудоспособного возраста – в содействии занятости, профессиональном обучении и т. п.), попали семьи с детьми-инвалидами.
Эта категория семей обособлена в российском законодательстве исходя из специфики правового статуса ребенка-инвалида, входящего в ее состав, и имеет производные от прав такого ребенка права на те или иные социальные предоставления [8, c. 35–36], направленные на минимизацию последствий социальных рисков, которым подвергаются члены семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. В частности, семьи, имеющие детей-инвалидов, обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, установленном в зависимости от даты их принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий (до или после 1 января 2005 г.), им предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг6 1 .
Среди социальных выплат можно отметить ежемесячные выплаты, предусмотренные Указом Президента РФ «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I груп-пы»7 2 . Право на такие выплаты имеют трудоспособные лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом. Для родителя размер этой выплаты составляет 10 000 руб. При этом отметим, что изменения законодательства о социальном обеспечении семей с детьми, закрепившие право трудиться в полную силу и получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком, также отразились и в условиях установления ежемесячной выплаты. Родитель – получатель этой выплаты теперь вправе осуществлять трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе неполного рабочего времени дистанционно или на дому. Указанное ограничение представляется оправданным, поскольку ребенок-инвалид требует больше заботы со стороны близких. Таким образом, силами государства, осуществляющего социальное обеспечение, и родителя может быть гарантирована более эффективная защита от социальных рисков и самому ребенку-инвалиду, и его семье.
Ряд мер предусматривается законодательством субъектов Российской Федерации (единовременные выплаты к Международному дню инвалидов, повышение по сравнению с общеустановленными размеров выплат в связи с усыновлением или принятием под опеку ребенка-инвалида и т. д.). Представляется, что осуществление соответствующих мероприятий в рамках таких важных социально-политических проектов, как Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, позволит не только обеспечить приоритетную реализацию мер социальной поддержки, но и оценить их эффективность. Среди прочего этому может способствовать мониторинг правоприменительной, прежде всего судебной, практики по делам о социальной защите семей с детьми-инвалидами.
Социальная защита семей с детьми-инвалидами в практике Конституционного Суда РФ. Особое место в судебной практике, в том числе складывающейся при рассмотрении дел, связанных с социальной защитой семей, имеющих детей-инвалидов, занимают решения Конституционного Суда РФ, которые могут выступать основанием для внесения соответствующих изменений в законодательство, если конкретное положение было признано противоречащим Конституции РФ полностью либо в части. Если же в решении Конституционного Суда было дано конституционное истолкование оспариваемой нормы, то она должна применяться исключительно во взаимосвязи с этим решением и только в той интерпретации, которая в нем зафиксирована. И в том и в другом случае решение Конституционного Суда способствует совершенствованию правового регулирования социальной защиты, адресованной различным категориям населения, включая семьи с детьми-инвалидами. Кроме того, мотивировочная часть таких решений может служить источником для теоретических обобщений по вопросам социальной защиты семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе с опорой на концепцию социального риска.
Из всех решений Конституционного Суда, которые в той или иной степени касались социальной защиты детей-инвалидов и их родителей, нами были избраны два постановления, наиболее ярко иллюстрирующие правовые проблемы, возникающие в этой сфере, и подтверждающие возможность применения концепции социального риска для их анализа и решения.
В постановлении от 20 апреля 2020 г. № 20-П81 Конституционный Суд исследовал правовое регулирование повышения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности в связи с наличием у пенсионера или нетрудоспособных членов семьи, находящихся на его иждивении, особых потребностей. Такое повышение устанавливается, в частности, родителю инвалида с детства, признанного судом недееспособным и нуждающегося в постоянном постороннем уходе и помощи (надзоре). Однако до недавнего времени ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», предусматривающая данное правило, характеризовалась неопределенностью и при разрешении споров о сохранении повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после достижения таким инвалидом совершеннолетнего возраста применялась судами по-разному. В одних случаях за родителем признавалось такое право со ссылкой на сохранение у инвалида особых потребностей в уходе, в других случаях брал верх формальный подход, основанный на утрате ребенком статуса иждивенца по отношению к своему родителю ввиду превышения размера его дохода как инвалида с детства над размером дохода его родителя.
С точки зрения концепции социального риска это означает, что в одинаковых обстоятельствах суды давали разную правовую оценку социального риска, игнорируя тем самым категориальное единство такого рода социально-рисковых ситуаций. Кроме того, изменение объема социальной защиты возможно лишь как следствие динамики социального риска, то есть изменения составляющих его содержание обстоятельств. В этой связи Конституционный Суд указал на отсутствие подобной динамики в случаях, когда родитель фактически продолжает осуществлять уход за своим достигшим совершеннолетия ребенком с инвалидностью (несмотря на формальное изменение правового статуса такого ребенка, который признается инвалидом с детства и которому устанавливается группа инвалидности). Родитель по-прежнему несет сопряженные с таким уходом значительные материальные затраты в целях поддержания жизнеобеспечения данного инвалида и удовлетворения его специфических нужд и потребностей, которые могут не покрываться за счет доходов самого инвалида и по этой причине фактически возлагаются на его родителя, в том числе если он сам является получателем пенсии.
В Федеральный закон «О страховых пенсиях» впоследствии были внесены необходимые изменения и дополнения9 1 , исключающие перечисленные выше дефекты правового регулирования социальной защиты семей с детьми-инвалидами.
Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ в постановлении от 27 июня 2017 г. № 17-П10 1 стал абзац первый п. 1 ст. 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», предоставляющий инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям право на компенсацию в размере 50 % от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования автогражданской ответственности. На основании данной нормы орган социальной защиты населения отказал матери двоих малолетних детей-инвалидов, нуждающихся по медицинским показаниям в обеспечении транспортным средством, в выплате такой компенсации, поскольку владельцем транспортного средства является не ребенок-инвалид, а сама данная гражданка как его законный представитель. Проблема заключалась в том, что правила предоставления данной компенсации устанавливались органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и в Нижегородской области они прямо обусловливали право на данную выплату регистрацией транспортного средства на самого ребенка-инвалида. Следовательно, органы государственной власти названного субъекта Российской Федерации вышли за пределы предоставленных им полномочий и установили дополнительные условия реализации инвалидами (в том числе детьми-инвалидами) или их законными представителями права на предоставление данной меры социальной поддержки, что привело к сужению круга лиц, имеющих право на ее получение.
Между тем Конституционный Суд подчеркнул значимость указанной компенсации, которая призвана обеспечить использование транспортного средства для проезда инвалидов (детей-инвалидов) к объектам социальной инфраструктуры (учреждениям здравоохранения, образования, культуры и т. п.) и тем самым способствовать их адаптации к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Речь идет о специфике социального риска, обусловленного инвалидностью и характеризующегося ограничением способности указанных лиц к передвижению. Такой социальный риск формализуется посредством указания в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида на его нуждаемость в транспортном средстве. Задача по преодолению последствий этого риска в отношении ребенка- инвалида возлагается, прежде всего, на его родителя как законного представителя, который, выполняя социально значимую функцию ухода за таким ребенком, одновременно в качестве владельца транспортного средства несет материальные затраты, возникающие в связи с исполнением обязанности по заключению договора страхования своей гражданской ответственности. При этом вне зависимости от того, кто является владельцем транспортного средства – ребенок-инвалид или его законный представитель, оно используется в целях реализации потребностей ребенка-инвалида, то есть в конечном счете для обеспечения защиты детей-инвалидов от одинакового по своей степени и характеру социального риска, разная правовая оценка которого недопустима.
Оспариваемая норма была истолкована как не предполагающая возможности отказа в выплате законному представителю ребенка-инвалида, нуждающегося по медицинским показаниям в транспортном средстве, компенсации в размере 50 % от уплаченной страховой премии по договору обя- зательного страхования лишь на том основании, что владельцем транспортного средства, фактически используемого для обеспечения нужд ребенка-инвалида, является не сам ребенок-инвалид, а его законный представитель. Такое истолкование стало ориентиром как для правоприменителей, так и для законодателя, который скорректировал оспариваемую норму, возложив на Правительство РФ полномочия по определению правил предоставления
указанной меры социальной поддержки
Заключение. Как мы уже отмечали, 2024 год объявлен в России Годом семьи. В течение этого года неоднократно акцентировалось внимание на семейных ценностях, на значимости заботы членов семьи друг о друге. В определенной степени были структурированы меры социальной поддержки семей с детьми, в частности многодетных семей: Президентом РФ 23 января 2024 г. был подписан Указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей»122, который закрепил единый статус многодетной семьи и обозначил единый вектор развития системы социальной защиты семей с детьми. В то же время особые семьи, такие как семьи с детьми-инвалидами, постоянно должны оставаться в фокусе внимания государства и общества. Защита таких семей от любых социальных рисков, обусловленных нездоровьем детей, необходимостью ухода за ними, гарантирования их прав на образование, медицинскую помощь и др., носит комплексный характер. В связи с этим исследование осуществляемого в данной сфере правового регулирования, включая преодоление его дефектов, в соответствии с решениями Конституционного Суда РФ может опираться на концепцию социального риска, способную стать основой для выработки доктринальных предложений по совершенствованию законодательства и практики его применения.
Список литературы Социальная защита семей с детьми-инвалидами в контексте концепции социального риска
- Истомина Е.А. Влияние концепции социального риска на правовое регулирование социального обеспечения: автореф. дис.. д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Е.А. Истомина. - Екатеринбург, 2021. - 51 с. EDN: BCTFGD
- Антипьева Н.В. Единство и дифференциация в праве социального обеспечения: автореф. дис.. д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Н.В. Антипьева. - Москва, 2016. - 49 с. EDN: WZCXLL
- Истомина Е.А. Правовой механизм управления социальными рисками: монография / Е.А. Истомина, М.Ю. Федорова. - Екатеринбург: УИУ РАНХиГС, 2018. - 240 с. EDN: DETKIO
- Епремян Т.В. Семья как социальный институт: понятие и ценностные ориентиры / Т.В. Епремян, М.Э. Арзамасова. - DOI 1022281/2542-1697-2022-01-04-64-69 // Экономика. Социология. Право. - 2022. - № 4 (28). -С. 64-69. EDN: AQGTFW
- Лифанова М.В. Семья как субъект предупреждения преступлений несовершеннолетних / М.В. Лифанова // Вестник Института права Башкирского государственного университета. - 2023. - № 4 (20). - С. 54-60. EDN: YCLBOO
- Азарова Е.Г. Конституционные гарантии социального обеспечения детей / Е.Г. Азарова // Журнал российского права. - 2015. - № 2. - С. 65-81. EDN: TIZEUN
- Гусева Т.С. Социальное обеспечение семьи, материнства, отцовства и детства в России: теоретические и практические проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Т.С. Гусева. - Москва, 2013. - 54 с.
- Семянникова Д.А. Правовое регулирование социального обеспечения детей-инвалидов в Российской Федерации: дис.. канд. юрид. наук / Д.А. Семянникова. - Москва, 2019. - 214 с.