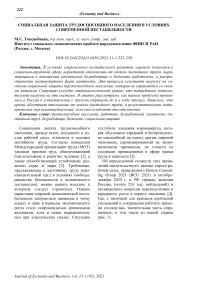Социальная защита трудоспособного населения в условиях современной нестабильности
Автор: Токсанбаева М.С.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 11-1 (81), 2021 года.
Бесплатный доступ
В условиях современного нестабильного развития мировой экономики в социально-трудовой сфере нарастают отклонения от модели достойного труда, выражающиеся в повышении хронической безработицы и бедности работников, в распространении нестандартных форм занятости. Эти процессы усиливают нагрузку на системы социальной защиты трудоспособного населения, которая не справляется со своими задачами. Ситуацию усугубил эпидемиологический кризис, что потребовало дополнительной нагрузки на эти системы. В статье рассмотрено, как данные проблемы проявились в России в сопоставлении с другими странами до и в ходе кризиса. Выявлено, что кризис обостряет отклонения от модели достойного труда, а результативность антикризисных мер оказывается выше, если они ослабляют эти отклонения.
Трудоспособное население, работник, безработный, занятость, достойный труд, безработица, бедность, социальная защита
Короткий адрес: https://sciup.org/170193734
IDR: 170193734
Текст научной статьи Социальная защита трудоспособного населения в условиях современной нестабильности
Социальная защита трудоспособного населения, прежде всего, входящего в состав рабочей силы, относится к основам достойного труда. Согласно концепции Международной организации труда (МОТ) таковым признан труд, обеспечивающий благосостояние и развитие человека [1], а также способствующий устойчивому развитию стран и мира [2]. Требования, предъявляемые к достойному труду (производительный труд в условиях свободы, равенства, безопасности и человеческого достоинства), можно назвать идеалом, к которому следует стремиться. Однако нарастание мировой экономической нестабильности затормозило движение к этому идеалу и даже в периоды экономического роста стало сопровождаться кризисными явлениями, хотя и менее выраженными, чем при классических спадах. Ситуацию усугубила эпидемия коронавируса, которая обусловила взрывной и беспрецедентно масштабный по охвату кризис мировой экономики, спровоцированный не экономическими причинами, но отчасти со сходными проявлениями в сфере рынка труда и занятости [3].
Об определенной схожести этих проявлений свидетельствуют данные опроса рабочей силы, проведенного Boston Consulting Group 2021 (BCG 2021) в октябре-декабре 2020 г. в 190 странах, включая Россию, (почти 210 тыс. наблюдений) и посвященного вопросам переподготовки и карьерного роста в период пандемии [4]. Так, с типичной для кризисов проблемой увольнений и сокращения рабочего времени столкнулась значительная часть опрошенных, в том числе из нашей страны (рис. 1).
■ Мир Россия
Рис. 1. Респонденты, принадлежащие к рабочей силе, по потере работы и изменению рабочего времени в России и в мире, в 2020 г., % [4]
Несмотря на заметные различия данных в среднем по выборке и по России (в пользу нашей страны), на рис.1 просматривается общая для обоих массивов тенденция, характерная для кризисных спадов. Значительная часть экономически активного населения либо потеряла работу, либо перешла на неполную занятость.
В России при более высокой доле тех, у кого ситуация с рабочим временем не изменилась, доля перешедших на сокращенный режим работы была выше доли высвобожденных. Это указывает на форму адаптации к кризису, которая, в отличие от многих зарубежных компаний, привычно реализовывалась российскими работодателями [5]. Вместе с тем по данным МОТ, во втором квартале 2020 г. в сравнении с четвертым кварталом 2019 г. в среднем по миру и странам с разным уровнем дохода (низким, средним и высоким) сокращение рабочего времени варьировалось незначительно [6].
Пандемия коронавируса усугубила тенденции последних лет, представляющие собой нарастание отклонений от модели достойного труда. Они выразились в росте уровня безработицы (в том числе в хронической форме), а также неполной, нерегулярной и неформальной занятости, количества работающих бедных. В предкризисный период, по информации МОТ, 40% мирового трудоспособного населения были безработными, а 35% – временно работали на условиях неполной занятости. Эти процессы повышали давление на системы социальной защиты [7]. Вместе с тем в
Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке большинство работников трудилось в неформальном секторе, а потому в социальном плане в принципе не было защищено [6].
Эпидемиологический кризис эту ситуацию ухудшил, увеличив разрыв между возросшими потребностями в социальной поддержке трудоспособного населения и возможностями их реализации. Например, если, по обследованиям МОТ, в 2019 г. (или по последним имеющимся данным), денежные пособия по безработице получали 21,8% безработных, то в 2020 г. (или по последним имеющимся данным) – 18,6%. Этот показатель сильно варьировался в разрезе мегарегионов по величине и динамике. Так, в Европе и Центральной Азии за те же годы он повысился с 42,5 до 52,2% (единственный мегарегион с положительной динамикой охвата безработных денежными пособиями), а в Азиатского-Тихоокеанском бассейне понизился с 22,5 до 14% [7, 8].
Рассмотрим названные тенденции, касающиеся отклонений от модели достойного труда, на примере нашей страны до и с началом коронакризиса и, прежде всего, остановимся на изменении показателей рабочей силы (без ее потенциального контингента), в том числе занятости и безработицы. Соответствующая информация Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) на основе Обследования рабочей силы (ОРС) представлена в табл. 1.
Таблица 1. Уровень участия в рабочей силе, занятости и безработицы в РФ в 20182021 гг. [16]
|
Показатель рабочей силы |
2018 |
2019 |
2020 |
2-й квартал 2021 |
|
Уровень участия в рабочей силе, % к населению 15 лет и старше |
62,8 |
62,3 |
62,0 |
62,3 |
|
Уровень занятости, % к населению 15 лет и старше |
59,8 |
59,4 |
58,4 |
59,2 |
|
Уровень безработицы, % к рабочей силе |
4,8 |
4,6 |
5,8 |
4,9 |
В преддверии эпидемии короновируса все три показателя в табл. 1 имели тенденцию к снижению. На уровни участия в рабочей силе и занятости не малое влияние оказало снижение численности трудовых ресурсов, обусловленное демографическими причинами. Эпидемиологический фактор проявился в 2020 г. в более значительном, чем в предшествующие годы, сокращении занятости, а также в повышении безработицы. До этого уровень безработицы снижался и соответствовал уровню полной занятости (по мировым стандартам, не более 3-5%), то есть данный процесс отличался от среднемировой тенденции, но из-за последствий пандемии вышел за эти рамки. Во 2-м квартале (последние из опубликованных на момент подготовки статьи данные ОРС) ситуация и с занятостью, и с безработицей улучшилась, а их показатели сблизились с предкризисным уровнем. Смягчение на тот момент карантинных мероприятий, показало, что выход из коронакризиса (если он не затянется) может быть сравнительно недолгим.
Что касается хронической (долгосрочной – не менее 12 месяцев) безработицы как одного из самых тревожных явлений докризисного периода в сфере труда, то, несмотря на низкий уровень общей незанятости, ее долгосрочный контингент был значительным, хотя его доля и имела тенденцию к снижению. Так, в 2018 г. безработные, искавшие работу не менее года, составили 28,6% всех безработных, а в 2019 г. – 23,8%. Эти данные говорят о том, что феномен полной занятости, формально фиксировавшийся в те годы, в реальности являлся определенным преувеличением, поскольку он плохо совместим с затяжными попытками трудоустройства, которые выявлялись как минимум у каждого четвертого безработного.
Среди основных причин хронической безработицы следует отметить возраст и уровень образования, в которых за годы экономической нестабильности произошли определенные подвижки. По нашим исследованиям, в состав «хроников» стали попадать не только традиционно уязвимые молодежь и лица старшего возраста. Проблемы с трудоустройством возникли также у рабочей силы на рубеже 40-45 лет, хотя данный возраст характеризуется сравнительно высокой экономической активностью [9]. В хроническую форму незанятости помимо лиц с низким уровнем образования погружаются также безработные с вузовской подготовкой. Их доля до коро-накризиса росла и в 2019 г. достигла почти 20% «хроников», что вызвано несовпадением количественных и качественных параметров спроса и предложения квалифицированного труда. Последствия пандемии обусловили снижение уровня долгосрочной безработицы, что связано с вливанием в состав незанятых значительного количества высвобожденных из-за кризиса работников. В 2020 г. среди безработных от 15 лет и старше этот уровень упал до 18,8%, однако в первые два квартала 2021 г. поднялся почти до 23%, сближаясь с уровнем в 2019 г. Поэтому есть основания полагать, что в условиях выхода из эпидемиологического кризиса долгосрочная безработица вновь будет воспроизводиться.
Еще одной тенденцией периода экономической нестабильности, а также кризисных ситуаций является рост неполной занятости. Судя по доле занятых меньше нормативного рабочего дня/недели (31-40 час), в нашей стране это форма занятости до эпидемиологического кризиса не имела широкого распространения, по уровню в разы уступая среднемировым показателям (табл.2).
Таблица 2. Занятые по фактическому количеству рабочих часов в неделю в РФ в 2019-
2021 гг., % к занятому населению в возрасте 15 лет и старше [16]
|
Количество часов в неделю |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
1-й квартал |
2-й квартал |
|||
|
До 31 час. |
5,1 |
5,7 |
4,8 |
4,7 |
|
31-40 час |
85,4 |
81,8 |
86,9 |
86,3 |
|
Более 40 час. |
5,9 |
5,2 |
5,3 |
5,8 |
|
Временно отсутствовали на работе |
3,6 |
7,3 |
3,0 |
3,2 |
|
Итого |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
По табл. 2, до коронакризиса на режиме неполного рабочего дня/недели трудилось мизерное количество занятых, которое уступало даже числу работников на сверхнормативном режиме рабочего времени (данные относятся к основной работе). Во многом это объясняется позицией широкого круга работодателей, которых в силу разных причин больше устраивает полная занятость персонала, хотя, по нашим исследованиям, немало работников, главным образом, женщин с детьми, предпочли бы сокращенный график работы [10]. В 2020 г. в связи с началом пандемии в России, как и в других странах, рабочее время заметно сократилось, более того, удвоилась доля работников, временно отсутствующих на работе (в вынужденных отпусках), что обычно наблюдается и при циклических кризисах. Но в первом полугодии
2021 г. уровень как нормативной, так и неполной занятости восстановился и даже стал сближаться с докризисными показателями (в 2017-2018 гг.), что вызвано определенными обстоятельствами.
Среди них изменение занятости в неформальном секторе (на некорпоративных предприятиях, или в индивидуальном предпринимательстве), рост которой, как отмечалось, принадлежит к числу индикаторов ее трансформации в условиях экономической нестабильности. Поскольку неформальный сектор практически полностью принадлежит к сфере малого бизнеса, рассмотрим, как занятость в ней менялась в разрезе корпоративных (юридических лиц) и некорпоративных предприятий (рис. 2). Корпоративные предприятия разделены на малые (16-100 чел.) и микро-предпрития (не более 15 чел.).



■ 2018
■ 2019
Малые предприятия Микропредприятия
Индивидуальное
предпринимательство
Рис. 2. Средняя численность работников малых и микропредприятий и численность занятых в секторе индивидуального предпринимательства в РФ в 2018-2019 гг., % к предыдущему году [16]
На рис. 2 видно, что в малом бизнесе перед коронакризисом занятость в секторе юридических лиц, то есть на малых и микропредприятиях имела тенденцию к сокращению, а в индивидуальном предпри- нимательстве она, наоборот, росла. При этом, по нашим исследованиям, на неполном режиме рабочего времени трудились как минимум вдвое больше работников малого бизнеса, чем в среднем по всем за- нятым, с заметным опережением в индивидуальном предпринимательстве [11]. Из этого следует, что, во-первых, мировая тенденция разрастания доли работников в неформальном секторе наблюдалась и в нашей стране. Во-вторых, данный сектор вносил немалый вклад и в рост неполной занятости, причем не только за счет наемного труда. Так, в структуре работников по статусу доля трудившихся меньше нормативного рабочего времени лидировали самозанятые, опережая работавших по найму [11]. Данная группа поспособствовала и росту неполной занятости в условиях коронакризиса, поскольку, по информации ФСГС, в 2020 г. была единственной статусной группой, чей удельный вес в составе занятых увеличился.
В 2020 г. снижение численности работников на малых предприятиях продолжилось, в том числе под воздействием коро-накризиса (94,8% в сравнении с 2019 г.), тем более что из-за него малый бизнес наряду со средним бизнесом пострадал особенно сильно. Улучшение эпидемиологической обстановки в первом полугодии 2021 г. эту тенденцию по малым предприятиям несколько ослабило, но не переломило. Численность занятых на них в тот период все так же сокращалась. Информация по микропредприятиям и индивидуальному предпринимательству даже за 2020 г. пока не опубликована, но скорее всего занятость на них, по крайней мере в тот год, убывала. Для индивидуального предпринимательства подтверждением могут служить данные по неформальному сектору, полученные на основе ОРС (в отличие от данных на рис. 2 они включают и незарегистрированное предпринимательство). В 2019 г. доля работников этого сектора по отношению ко всем работникам от 15 лет и старше составила 20,6%, а 2020 г. - 20%, то есть понизилась, надо полагать, не без влияния коронакризиса. Но в начале
2021 г. это падение затормозилось, а во 2м квартале. доля неформалов поднялась до 20,9%.
Встает вопрос, в связи с чем в первом квартале 2021 г. неполная занятость сократилась даже в сравнении с предкризисным уровнем (табл. 2). Из-за дефицита информации можно высказать только некоторые предположения. Прежде всего, несколько понизился общий уровень занятости, вполне вероятно, в больше мере за счет работников на неполном режиме рабочего времени. Кроме того, смягчение карантинных мероприятий создало некоторые предпосылки для оживления бизнеса и для компенсации потерь, возникших в предшествующий год, в том числе за счет привлечения имеющихся резервов. К их числу можно отнести и резервы удлинения рабочего времени. Не исключено также, что на режимы работы повлиял перевод немалого числа работников на дистанционную занятость, но этот вопрос еще нуждается в изучении. Но уже сейчас высказываются соображения, что эта форма занятости в перспективе вообще упразднит понятия рабочего дня/недели [12].
Мировая тенденция роста численности работающих бедных, отклоняющаяся от концепции достойного труда, в нашей стране уже не наблюдается. Если она проявляется, то в основном в кризисные периоды, но по мере выхода из кризиса эта доля уменьшается на фоне общего снижения бедности. Данный тренд можно проследить по информации ФСГС о доле занятых в экономике в составе малоимущего населения (официально принятое обозначение бедных) после кризисных явлений в 20142015 гг., вызванных обвалом валютного курса рубля и массированным введением против нашей страны экономических санкций по политическим мотивам (рис. 3).
201533,6
201631,9
201731,5
201928,9
Рис. 3. Занятые в экономике, относящиеся к малоимущим, в РФ в 2015-2019 гг., % к малоимущему населению [16]
Однако самую небольшую долю работающих бедняков в 2019 г. на рис. 3 едва ли ее можно считать низкой, поскольку граждане, имеющие работу и трудовой доход, в принципе не должны попадать в категорию малоимущих (кроме отдельных уязвимых групп – малоквалифицированных, многодетных и пр.). Поэтому работающие бедные – одна из ведущих причин медленного сокращения общего уровня бедности населения с 13,2% в 2016 г. по 12,3% в 2019 г., которое коренится преимущественно в недостатках распределения заработной платы, обусловливающих высокое неравенство работников по ее размерам.
Как ни парадоксально, но в первый год пандемии коронавируса бедность населения не только не повысилась, но даже уменьшилась в сравнении с 2019 г. (до 12,1%), а реальная заработная плата подросла (на 3,8%), что не согласуется с традиционными симптомами экономического кризиса. Данная особенность отчасти вызвана его внеэкономической природой, в результате чего, судя по размерам заработной платы, набор наиболее пострадавших видов деятельности (отраслей) заметно отличался от набора при циклических кризисах. Кроме того, часть отраслей оказалась в выигрыше, что вызвало своего рода компенсационный эффект в распределении трудовых доходов, который внес некоторую лепту в рост реальной заработной платы и смягчил доходное неравенство, в том числе такое его проявление, как бедность [13]. Разумеется, свою роль сыграли и антикризисные меры социальной защиты.
Теперь обратимся к социальной защите трудоспособного населения, которая в соответствии с подходами МОТ должна быть наиболее масштабной в таких областях, как охрана материнства и поддержка безработных [7]. Полагаем, сюда следует включить и защиту детей (в документах МОТ она выделена как отдельное направление), поскольку несовершеннолетние дети в своем большинстве проживают в семьях работников (трудоспособный возраст, а также возраст деторождения и воспитания подрастающего поколения в значительной степени совпадают). В статье данные области подробно не рассматриваются, акцент сделан на мерах социальной защиты, которые в особенности не адекватны задачам обеспечения достойного труда.
Что касается социальной поддержки семей с детьми, регулируемой на федеральном уровне (но финансируемой регионами), то она, прежде всего, относится к малоимущим семьям (ежемесячное пособие на ребенка), а также сначала к многодетным, затем двухдетным, а в ситуации коронакризиса уже и однодетным семьям (материнский капитал). Если первая форма поддержки нацелена на некоторое противодействие бедности (довольно скромное), то вторая скорее на ослабление демографических проблем за счет роста рождаемости. Разумеется, применяются и другие многочисленные и многоканальные формы поддержки этих и других уязвимых категорий (неполных семей, инвалидов и пр.), которые в значительной мере носят региональный и поселенческий характер.
Но при этом пока не реализуется в надлежащей степени такая форма соци- альной защищенности детных семей, как достойная оплата труда родите-лей/опекунов. Несмотря на то, что согласно рекомендациям МОТ в минимальной заработной плате должно учитываться обеспечение семьи, включая несовершеннолетних детей, в нашей стране до последнего времени (до 2018 г.) не выдерживался даже принцип хотя бы соответствия минимального размера оплаты труда (МРОТ) прожиточному минимуму трудоспособного человека. Поскольку МРОТ является исходной базой дифференциации заработной платы в зависимости от квалификации труда, то уровень МРОТ отражается на всей квалификационной иерархии заработков. Это – одна из ведущих причин того, что в составе малоимущих домохозяйств преобладают хозяйства работников и абсолютное большинство (в 2019 г. 81%) составляют детные семьи, причем более четверти из них приходятся на семьи с одним ребенком.
В этой связи меры, предпринятые для поддержки семей с детьми в период эпидемиологического кризиса (временные и постоянные), можно считать весьма грамотными, так как они предполагают не только помощь этим семьям в сложившейся кризисной ситуации, но фактически учитывают и целесообразность компенсации недостатков в области гарантий занятости и распределения заработной платы. Следует, например, поддержать такую, новую меру, дополнительную к выплачиваемому много лет пособию на ребенка малоимущим семьям, как ежемесячная выплата на детей 3-7 лет (тоже для малоимущих). Дело в том, что семьи с детьми до 1,5 и 3 лет уже пользуются разнообразными формами поддержки, тогда как домохозяйства с 3-7-летними иждивенцами также нередко уязвимы и по заработкам родителей, и в аспекте их занятости. Кроме того, несмотря на то, что в условиях коронакризиса помощь семьям с детьми не относится к целевым мерам по поддержанию платежеспособного спроса, она, тем не менее, «работает» и на эту задачу.
Перейдем к социальной поддержке безработных. До эпидемиологического кризиса по Программе содействия занятости населения она оказывалась государственной службой занятости в основном по принципу помощи в условиях полной занятости, то есть главное внимание уделялось выплате пособия по безработице (в рамках пассивной политики занятости) и трудоустройству на имеющиеся рабочие места (в рамках активной политике занятости). Доминирующую роль по затратам играла пассивная политика, хотя для безработных и в нашей стране, и за рубежом более актуальным является содействие в трудоустройстве. Не случайно в развитых странах получение пособия по безработице стало теснее увязываться с активизацией поиска работы и сочетается с тем, что такое направление активной политики, как подготовка и переподготовка безработных, по расходам значительно превосходит пассивную политику [14].
В нашей стране активизацию поиска работы до последнего времени стимулировали более чем скромные размеры пособия по безработице. Так, они не менялись с 2009 г. по 2018 г., лишь к концу которого немного увеличили минимальное пособие. В 2019 г. максимальный его размер довели до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека, но только для лиц предпенсионного возраста, чтобы ослабить негативы пенсионной реформой. Для прочих безработных максимальное пособие повысили до 70% этого минимума. И только в связи с коронакризисом максимальный размер на уровне прожиточного минимума стали выплачивать всем его получателям, что обусловило двукратное увеличение доли зарегистрированного контингента в составе всех безработных с 26% в 2019 г. до 55% в 2020 г. Подобный эффект типичен для кризисов и связанного с ним резкого увеличения пособия по безработице (например, он имел место в кризисном 2009 г.) и также выступает антикризисной формой поддержки как доходов безработных, так и платежеспособного спроса населения.
Если размер максимального пособия по безработице и после выхода из коронакри-зиса сохранится на уровне прожиточного минимума, то он не сможет, как прежде, подвергаться «заморозке». Встанет вопрос об усилении стимулов активизации поиска работы в условиях, когда хроническая безработица характерна для четверти безработных. Заметно повысить эффективность их трудоустройства на имеющиеся рабочие места будет проблематично. Поэтому необходимо расширить в рамках службы занятости практику профессиональной подготовки и переподготовки безработных, которая лучше подходит для рассасывания структурной безработицы, но в нашей стране весьма скромна (по данным Минтруда РФ, в 2018 г. ее прошли всего лишь 2% зарегистрированных безработных). Это относится не только к безработным, так как проблемы структурных дисбалансов характерны для всей рабочей силы, а охват работников дополнительным профессиональным обучением и переобучением в России почти вдвое ниже, чем странах ОЭСР [15].
Обратимся также к вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, которые затрагивают социальную защиту занятых в нем преимущественно в связи с необходимостью сокращения «теневых» видов бизнеса. В основном это касается малого бизнеса ввиду несопоставимо большей распространенности в нем этих видов. Антикризисные меры поддержки в условиях пандемии коронавируса тоже относятся главным образом к малому бизнесу, поскольку самые пострадавшие от кризиса и целевым образом поддерживаемые отраслевые предприятия (деловые и профессиональные услуги, сфера услуг) типичны для него, тогда как средний бизнес специализируется на реальном производстве.
Позитивные стороны антикризисных мер в отношении социальной защиты работников в малом бизнесе состоят, во-первых, в усиление стимулов выхода из «тени», поскольку поддержка оказывается только легальным фирмам. Это косвенно, но способствует защите занятых наемным трудом. Во-вторых, малый бизнес затронули стимулирующие меры по непосредственной поддержке внутрифирменной занятости, поскольку они распространялись на тех, кто старался сохранить персонал (безвозмездная финансовая помощь на выплату заработной платы и пр.).
В целом эпидемиологический кризис сильнее обнажил проблемы отклонения занятости от модели достойного труда, а антикризисные меры показали свою эффективности в случаях, если они способствовали ослаблению эти проблем. Но по ряду направлений требуются более сложные решения, которые еще необходимо выработать. К ним относятся обоснованное распределение заработной платы, сокращающее неравенство и бедность работающего населения; меры снижения структурной несбалансированности рынка труда и хронической безработицы; усиление кооперации малого бизнеса с крупным и средним для транслирования в малые фирмы технологических и организационных инноваций, в том числе в области социальной защиты работника
Список литературы Социальная защита трудоспособного населения в условиях современной нестабильности
- Decent work. Report of the Director General to ILO Conference (Geneva, ILO, 1999). - Geneva: International Labour Office, 1999. - 80 P.
- План МОТ по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года - [Электронный ресурс]. - URL: https://ilo.int/wcmsp5/groups/public/-europe/-ro-geneva/-sro-moscow/documents/publication/wcms_510727.pdf (дата обращения: 5.10.2021).
- Подвойский Г.Л. Сфера труда в условиях пандемии COVID-19: анализ, оценки и рекомендации МОТ // Мир новой экономики. - 2021. - № 15 (1). - С. 28-39.
- EDN: TUXFDH
- Decoding Global Reskilling and Career Paths. Boston Consulting Group 2021. April 2021 - [Электронный ресурс]. - URL: https://drive.google.com/file/d/1iWW5SBOnxsyDIvWtfhLvW9t3h9GTWnT8/view (дата обращения: 20.09.2021).
- Гимпельсон В., Капелюшников Р. Карантинная экономика и рынок труда. 2 июня 2020 - [Электронный ресурс]. - URL: https://econs.online/articles/ekonomika/karantinnaya-ekonomika-i-rynok-truda/(дата обращения: 29.06.2021).