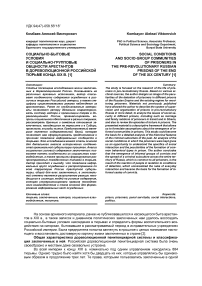Социально-бытовые условия и социально-групповые общности арестантов в дореволюционной российской тюрьме конца XIX в.
Автор: Комбаев Алексей Викторович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию жизни заключенных в дореволюционной России. Основываясь на различных архивных источниках, автор описывает особенности содержания осужденных в различных тюрьмах Российской империи, а также специфику существовавшего режима наблюдения за арестантами. Ранее не опубликованные материалы позволяют автору детально охарактеризовать систему надзора и организации тюрем в дореволюционной России, проанализировать вопросы социального обеспечения в разных тюрьмах, рассмотреть брачные и семейные отношения заключенных, находящихся на пересылке и в Сибири, прояснить эпизоды пыток. Представленный материал является содержательной базой, которая позволяет нам сформулировать предположения о причинах появления неформальных сообществ в тюрьмах. Это исследование может стать основой для детального анализа исторических особенностей криминальной субкультуры прошлого. Анализ социальных условий содержания заключенных позволяет понять особенности их социального взаимодействия, а также принципы формирования распространенных поведенческих типажей в тюрьме. Автор приходит к выводу, что появление неформальных групп осужденных и распространение по всей территории России преступной субкультуры, общей для всех заключенных, в значительной степени является результатом реакции находящихся в изоляции людей на условия содержания, которая универсализировала правила повседневного взаимодействия и стала основой для формирования неформальных каст осужденных.
Тюрьма, заключенные, каторга, социальные взаимодействия, политика
Короткий адрес: https://sciup.org/149134796
IDR: 149134796 | УДК: 94(47)-058.56“18” | DOI: 10.24158/fik.2020.5.14
Текст научной статьи Социально-бытовые условия и социально-групповые общности арестантов в дореволюционной российской тюрьме конца XIX в.
На основе архивного материала, ранее не публиковавшегося и касающегося быта арестантов в XIX в., а также записок и дневников политических заключенных нам удалось воссоздать социально-бытовые условия нахождения в тюрьмах и определить формы воспитательного воздействия на каторжан, бытовавшие в рассматриваемый период в исправительных учреждениях Российской империи. Была предпринята попытка заглянуть в прошлое с целью понимания настоящего и восстановить достоверную картину жизни заключенных в стране [2].
Общая характеристика дореволюционной пенитенциарной системы и классификация заключенных в ней . Российская дореволюционная пенитенциарная система была очень своеобразно и местами даже своевольно устроена.
Во всей империи к концу XIX в. номинально под одним управлением находились 884 тюрьмы. Однако трудно было найти хотя бы двадцать из них, которые управлялись бы одинаковым образом в продолжение трех лет. Те права, которыми пользовались заключенные в одной тюрьме, не существовали в другой; одних осужденных закармливали, другие содержались впроголодь; в одном месте нарушение правил не влекло за собой ничего, кроме выговора, тогда как в другом подобное же нарушение наказывалось двадцатью ударами розг. Везде беспорядок, противозаконный произвол и более или менее полное отсутствие всякой системы [3].
В дореволюционной тюрьме существовала неформальная иерархия заключенных, выработанная самими арестантами. Известно, что выделялись несколько типов осужденных. Так, например, «Иваны» отличались особой смелостью и жестокостью. «Храпы» игнорировали моральные нормы и учитывали лишь свои личные блага и интересы. «Шулера» являлись признанными специалистами игры в карты. Следует отметить, что азартные игры были связующим звеном в острожной жизни между различными социальными категориями заключенных, поэтому «шулер» – человек, знающий секреты карточной игры и умеющий играть на высоком уровне, – был фигурой значимой для тюремного мира. Еще одним типом осужденных были «Асмадеи», отличавшиеся предприимчивостью и способностью выстраивать товарно-денежные отношения даже в таких непривычных условиях, как ссылка и острожное общежитие. Очень часто они были связаны с контрабандой.
Социально-бытовые условия арестантов . Следует отметить, что социально-бытовые условия в разных тюрьмах XIX в. нельзя назвать одинаковыми. Например, в 1882 г. в Кишинёвской тюрьме выявлялись постоянные нарушения содержания арестантов. «Имелось 30 “шаек”, которые использовались как для разноса пищи, так и для умывания, осужденным приходилось даже есть из той же посуды, в которой мылись сифилитики» [4]. Обращения осужденных за помощью к медицинским работникам обычно игнорировались. «Рацион у осужденных очень скудный, в меню гнилая капуста, а мясо дается только по воскресеньям. Больные содержатся в смежных помещениях со здоровыми людьми. Женские камеры помещаются рядом с мужскими в одном общем коридоре» [5].
В рапорте прокурора Московской судебной палаты 1882 г. С. Гончарова министру юстиции предстает картина тех трудностей, с которыми сталкивались арестанты. Из жалоб арестантов, содержащихся в Московской центральной пересыльной тюрьме, следует, что в учреждении практически нет воды, которую можно было бы употреблять, не боясь за свое здоровье. «Выявлено отсутствие хорошей воды для питья женщин и детей, число которых достигает 500 человек, на них выпадает всего только десять ведер чистой воды. Недостаток воды для питья чая и других потребностей женского населения тюрьмы восполняется накачиванием воды из колодца, которая крайне дурного качества: мутна, солена на вкус, издает неприятный запах и вредно сказывается на здоровье арестантских детей, постоянно жалующихся на желудочные болезни» [6].
Выдача одежды заключенным также не регулировалась, зачастую арестанты ходили в обносках, а казенные комплекты выдавались в случае крайней степени износа имеющегося у осужденных тряпья или при ожидании проверок надзорных органов условий содержания арестантов. Все заключенные были одеты одинаково плохо, носили круглые каторжные шапки, рваные серые бушлаты или халаты, многие не имели обуви. «Все грязны, небриты, голоса большей частью хриплы от простуды. Политических от уголовных не отличишь. И те, и другие измучены, усталы и голодны» [7, с. 8].
Абсолютной нормой было заковывать арестантов в ручные и ножные кандалы – оковы. Наложение оков выполнялось в соответствии со степенью тяжести преступления и назначенным заключенному наказанием: так, на каторжных бессрочных (первого разряда) накладывались и ручные, и ножные кандалы; на срочных (второго и третьего разряда) – только ножные. И для тех, и для других наложение кандалов было обязательным. На всех же остальных арестантов, осужденных к менее тяжким наказаниям или подследственных, наложение кандалов допускалось в случае опасности побега [8, с. 50–51].
Широкое распространение получила практика использования кандалов при пересылке арестантов с целью предупреждения побегов, и тут уже не имела значения ни тяжесть преступления, ни состояние его дел – практически все осужденные пересылались по этапу в кандалах и пешком. Хотя в конце XIX в. чиновники пришли к выводу, что более экономически выгодно и правильно арестантов перемещать в места ссылки и каторги не пешим ходом, а с помощью перевозок.
Эпизоды пыток в тюрьмах и острогах . Во многих тюрьмах практиковались пытки и истязания каторжан. Следует, однако, отметить, что они практически не касались политических заключенных, испытывавших на себе более мягкое отношение жандармов, но не в силу буквы закона, а в большей степени ввиду сложившихся традиций. Интересно, что до ХIХ в. по отношению к политическим заключенным пытки были даже более жестокими. Юридически это не было закреплено, но осужденных за несогласие с властью, например, полагалось пытать на вертикальной дыбе, как и уголовников. Однако если на такую дыбу не подвешивали уголовных преступников младше 14 и старше 70 лет или беременных, то на политических заключенных это правило не распространялось.
Сегодня практиковавшиеся в тот период времени методы воздействия на осужденных могут вызывать возмущение в крайней степени, но в XIX в. физическое давление на заключенных было в порядке вещей. Справедливости ради нужно отметить, что надзиратели, не имея других средств воздействия на арестантов, зачастую использовали такие методы не из садистских побуждений, а как само по себе разумеющееся средство борьбы с непокорными и буйными заключенными, не считая его чем-то ужасным или садистским. Про использование пыток знали все, не исключая полицию.
Есть свидетельства использования в тюрьмах по отношению к заключенным так называемого «бутука». Это особый инструмент, состоящий из двух длинных толстых досок, сложенных горизонтально одна на другую и скрепленных с одного конца петлей. Верхняя доска могла двигаться при помощи шарниров, а на внутренней стороне были сделаны выемки или отверстия, соответствующие толщине человеческой ноги. В эти отверстия заковывались ноги арестантов. Заключенного клали навзничь, подымали верхнее бревно и, просунув его ноги в выемки, привинчивали верхнюю доску к нижней. В таком положении, лежа на полу ногами вверх, осужденный оставался в течение суток [9]. Этот инструмент был обыденным и никого не возмущал. Однако иногда после применения «бутука» человек долгое время не мог восстановить нормальное функционирование ног, были случаи полной инвалидизации подвергнутого пыткам.
Практиковались и другие пытки, например сажание арестантов в пустой улей, который со всех сторон плотно охватывал человека и совершенно лишал его способности к движению.
Распространенной практикой было клеймение преступников, буква «Б» ставилась на руках у арестантов, которые совершали побеги.
В Государственном архиве Республики Бурятия хранятся документы, позволяющие сделать вывод о том, что практика пыток была стандартной для XIX века. Сохранились такие документы, как «Дело о прикованных к стене арестантах, 1852 год», «Дело о клеймении беглых ссыльных», «Дело о наказании палача Афанасьева за буйное поведение в тюрьме, 1859 год».
В конце столетия система пыток становится менее жесткой: процесс либерализации, охвативший Западную Европу, стал затрагивать и Россию. Хотя наша страна и стала последней в европейском мире, где были ликвидированы физические наказания (после 1863 г. их количество сократилось, а многие практики запретили юридически), но фактически эпизоды пыток и другое силовое, очень часто противоправное, воздействие на арестантов оставались нормальной практикой для тюремной системы.
Особо тяжело приходилось так называемым инородцам. Всех без исключения представителей национальных групп: грузин, татар, армян, лезгинов, персов…, – далекие от географии и этнографии тюремные надзиратели не различали, учитывая только их нерусскость, неправослав-ность. «”Эй, турок, кишмиш, так и так твою!”, – обыкновенно приговаривал надзиратель» [10].
Следует отметить, что каторжан с Кавказа было очень и очень много. Среди них были и так называемые «обратники» (так называли арестантов, которые были уже на каторге, но бежали с нее и были снова возвращены). «Обратники» были уважаемы среди остальных групп арестантов, но и чаще других подвергались силовому воздействию надзирателей. Особенно если «об-ратник» - иноверец.
Каторга в Сибири, Нерчинский край и проблема брачно-семейных отношений . Сибирь, где находится Нерчинский край, с давних времен была местом изгнания для провинившихся перед властью. Еще со времен царя Алексея Михайловича туда ссылали неугодных бояр и сановников, а во времена Павла I заселение Сибири производилось «за предерзости против помещиков, за произнесение дерзких слов против императорского величия».
В ссылку ежегодно отправлялось до 10 тысяч разного рода преступников, в некоторых местностях число приписанных ссыльных достигало почти половинного числа коренных жителей.
Русское правительство считало ссылку в Сибирь на каторгу одним из средств борьбы с нарастающим революционным движением. Оно стремилось найти в Сибири самые отдаленные, глухие места, где ссылаемые были бы заживо погребены. Одним из таких мест в Сибири стал Нерчинский край. Тюрьмы Нерчинской каторги пополнялись представителями всех волн русского протестного и революционного движения.
Население Забайкальской области состояло преимущественно из туземцев-тунгусов и бурят, и только в первой половине XVII в. русские стали увеличивать популяцию. С целью заселения пустынного Нерчинского края в 1697 г. решено было перевезти сюда беглых крестьян, большая часть которых не вынесла утомительного пути и погибла от недостатка съестных припасов, от болезней и разного рода лишений, не добравшись до места назначения [11]. Отдаленность от центра и отсутствие путей сообщения делали этот край долгое время труднодоступным и малозаселенным. Только с 1722 г., то есть с тех пор как царское правительство решило сделать его местом ссылки для приговоренных к каторжным работам, население края стало постепенно увеличиваться, колонизуя эти места [12].
Условия содержания в тюрьмах Нерчинска и отношение в них к разным категориям арестантов различались. Уголовные осужденные составляли свой особый мир, их жизнь была построена совершенно иначе, отлично от политических арестантов. Очень часто условия были близки к невыносимым, в переполненных камерах содержалось по 35–40 человек, кроватей не было, спали они на нарах.
Одной из важных проблем на каторге была проблема брачно-семейных отношений арестантов. В конце XIX в. остро встал вопрос об организации жизни в Сибири. Каждому живущему в Сибири хорошо известны печальные, как в нравственном, так и в материальном отношении, последствия, проистекающие из жизни вдовцов при живых женах, лишенных возможности увидеть свою жену и в то же время не имеющих права вступить в новый брак, что приводило к повальному разврату обоих полов. Масса незаконнорожденных, невозможность завести хозяйство, побеги и преступления с целью поиска пропитания – вот те последствия, которые влекла за собой одинокая жизнь ссыльных [13, с. 50].
Опираясь на дневники политических каторжан, можно воссоздать еще одну картину быта арестантов в Сибири, тесно связанную с проблемой брачно-семейных отношений. Уже на этапе пересылки многие женщины подвергались насилию со стороны заключенных мужчин, а также со стороны надзирателей. Большинство уголовных женщин были осуждены за убийство своих мужей и незаконнорожденных детей. Уже на каторге они занимались проституцией, а их дети, взрослеющие в такой обстановке, закономерно становились на преступный путь и зачастую вели аморальный образ жизни, который становился нормой для Сибири.
Беря во внимание все негативные последствия безбрачия заключенных в Сибири, в конце ХIX в. развернулась бурная дискуссия о том, нужно ли разрешить вступление в брак арестанту по взаимному согласию всех сторон, даже при живых женах, которые не последовали за своими мужьями на каторгу. Однако единодушного решения найдено не было.
В целом, описывая дореволюционную российскую систему изоляции человека от общества, несмотря на всю непохожесть условий содержания арестантов и их быта в разных тюрьмах, можно сделать вывод о том, что она была построена на основе реализации возможностей социализации человека в новых условиях, особенно это касается сибирской каторги. Несмотря на многочисленные эпизоды насилия над личностью, все же имперская система заключения давала возможность осужденным начать жить иначе.
Изучаемый нами период функционирования исправительной системы не только интересен с исторической точки зрения, но и важен для понимания зарождения неформальных групп заключенных. Анализ социально-бытовых условий, в которых содержались арестанты, позволяет понять специфику их социального взаимодействия и выявить особенности формирования особого вида поведенческих практик в тюрьме. Мы считаем, что зарождение неформальных групп осужденных и распространение по всей территории России криминальной субкультуры, общей для всех арестантов, во многом обусловлены практикой организации быта ссыльных в Сибири.
Ссылки:
Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Социально-бытовые условия и социально-групповые общности арестантов в дореволюционной российской тюрьме конца XIX в.
- Работа выполнена при финансовой поддержке Бурятского государственного университета в рамках выполнения научного проекта "Социальная трансформация региональной преступности"
- Комбаев А.В. Верхнеудинская тюрьма в конце XIX - начале XX вв.: быт арестантов // Власть. 2020. Т. 28. № 1. С. 257-261. DOI: 10.31171/vlast.v28i1.7087
- Кенан Дж. Жизнь политических арестантов в русских тюрьмах. СПб., 1906. 33 с
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 564. Оп. 1. Д. 4324. Л. 4
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 564. Оп. 1. Д. 4324. Л. 4