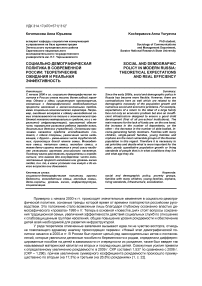Социально-демографическая политика в современной России: теоретические ожидания и реальная эффективность
Автор: Кочепасова Анна Юрьевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
С начала 2000-х гг. социально-демографическая политика в России стала носить более гибкий характер. Однако и здесь существуют противоречия, связанные с демографической необходимостью прироста населения и многочисленными проблемами социально-экономического характера. Например, ожидания возврата к идеалу многодетной семьи сталкиваются не только с экономической проблемой нехватки материальных средств, но и с неразвитой инфраструктурой, призванной обеспечить нормальное развитие ребенка (прежде всего, дошкольных детских учреждений). Основными причинами нехватки средств исследователи считают, с одной стороны, увеличение числа иждивенцев, с другой - уменьшение числа трудоспособных, приносящих доход членов семьи. Многодетные семьи, неполные семьи, молодые семьи, а также дети-сироты являются в этой связи наиболее уязвимыми группами российского населения. Поэтому важно расставить приоритеты и определиться, что важнее для государства: чисто количественный прирост населения или уровень жизни людей, т.е. то, в каких условиях они живут и до какого возраста они доживают.
Социально-демографическая политика, группы бедности, многодетные семьи, молодые семьи, дети-сироты, уровень жизни, инфраструктура, социализация
Короткий адрес: https://sciup.org/149133476
IDR: 149133476 | УДК: 314.17(470+571)“312” | DOI: 10.24158/spp.2020.2.10
Текст научной статьи Социально-демографическая политика в современной России: теоретические ожидания и реальная эффективность
Примерно с начала 2000-х гг. происходят значительные изменения в социально-демографической политике, основные тренды которой время от времени повторяются российским руководством. Это положение стало возможным лишь благодаря глубокому осознанию властью демографического «провала» 1990-х гг. Теперь в основной «повестке дня» стоят вопросы сохранения традиционной семьи, увеличения эффективности действий социальных служб по отношению к слабозащищенным группам населения, общее повышение уровня рождаемости и обеспечение детей всей необходимой для развития инфраструктурой.
У ряда теоретиков отмеченные заявления вызывают едва ли не чувство восторга, отнюдь не помогающего здравому анализу происходящих перемен: «Новый этап демографической политики начался в 2000-е гг. В России был принят целый ряд законодательных актов и постановлений, которые увеличили денежные пособия по беременности и родам, определили дифференцированные пособия на детей в зависимости от очередности их рождения, также был введен так называемый материнский капитал на вторых и последующих детей. Совокупные усилия привели к определенному увеличению рождаемости: в 2009 г. СКР составил 1,537 по сравнению с 2006 г. (СКР - 1,296), причем увеличение суммарного коэффициента рождаемости произошло преимущественно по вторым (на 17,3%) и третьим (на 26,8%) рождениям» [1, с. 22].
Начнем с того, что многие семьи, особенно в российской «глубинке», просто не осведомлены о том, какие выплаты им по закону полагаются. Например, многие семьи просто не знают о размерах и возможностях получения региональных выплат, особенно если это касается семей с одним или двумя детьми. Незнание порождает неуверенность в завтрашнем дне, и решение о рождении еще одного ребенка либо откладывается на неопределенный срок, либо вообще не обсуждается. В этой связи уровень благосостояния семьи и возраст матери являются наиболее значимыми факторами. Исследователи отмечают и такой фактор, как уровень образования матери, поскольку в городской среде отложенное рождение или нежелание иметь детей связано с ценностями самореализации, карьерного роста и т.п.
На фоне кажущихся радикальными изменений некоторые теоретики предлагают не просто возвращение к традиционной семье, но также и восстановление характерных для нее семейных ценностей и идеала многодетности. Остается вопрос, по каким причинам повышение рождаемости столь тесно коррелирует с предоставлением материнского капитала? И ответ на этот вопрос очевиден: многие семьи (часто имеющие ярко выраженный девиантный характер) используют его как средство повышения собственного благосостояния, если обладают возможностями незаконными способами обналичить предоставленные средства. Данный факт не мешает теоретикам, заинтересованным в получении ученой степени, выдвигать на защиту такие положения, как например: «Образ жизни многодетной семьи в России является противоречивым, а по отношению к общепринятым нормам и нравам это, безусловно, явление исключительное и девиантное. С точки зрения воспроизводства населения только переход к массовой многодетности в сложившейся ситуации кризиса семьи и семейного образа жизни позволит преодолеть негативные тенденции снижения численности населения и утраты семейных ценностных ориентаций» [2, c. 12].
Возможно, в аспекте демографии данное положение можно принять. Но правомерно ли ставить количество проживающих на определенной территории людей выше качества их жизни? Ведь нельзя не согласиться с тем, что совокупный доход семьи складывается в основном из заработных плат трудоспособных членов семьи (не считая возможную материальную помощь со стороны родителей). Отсюда следует вывод, что бедность является источником опасности прежде всего для многодетных и неполных семей. Фактически у полной многодетной семьи есть один стабильный источник дохода – это трудоспособный мужчина, постоянно занятый в процессе производства. В силу необходимости женщина вынуждена тратить время и силы на уход за детьми, в перерывах выполняя надомную работу (в этом случае ей необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятой).
Вторым моментом, на который хотелось бы обратить внимание, является то, что демографическая статистика в России несколько «выправляется» за счет многодетных семей мигрантов. В среде представителей ислама, например, по настоящее время бытует убеждение, что детей в семье должно быть столько, «сколько Бог даст». Подобное было характерно и для крестьянской дореволюционной семьи в России: чем больше детей (особенно мужского пола) в семье, тем больше трудоспособных работников в хозяйстве. Вместе с постепенным перетеканием сельского населения в города значительно изменяются и репродуктивные стратегии.
Принято считать, что одним из решающих факторов для принятия решения о рождении ребенка является возраст. Прежде всего хотелось бы отметить несостоятельность такого понятия, как «материнский возраст» в отношении здоровых и способных к воспроизводству женщин. Медицинские нормы стигматизируют здоровых женщин, внедряя в их сознание мысль о том, «что уже поздно». Но медицина отнюдь не стоит на месте, и в соответствии с этими изменениями должны меняться медицинские нормы в отношении как молодых, так и «старородящих».
Что касается деторождения: вся несостоятельность формального медицинского подхода при определении понятий «старого» и «молодого» убедительно продемонстрирована в статье О. Бредниковой, доказывающей, что данные понятия являются лишь частью медицинского контроля. «Старородящая» мать дискурсивно «превращается» в молодую при условии, если роды прошли успешно, и значительных отклонений у новорожденного не замечено [3, с. 463]. На наш взгляд, следует обратить внимание на то, что речь вообще идет не о биологическом возрасте как таковом, но именно о здоровье, условиях жизни и возможностях заботы о новорожденном.
Традиционная точка зрения на возраст как особого рода демографический ресурс приводит к росту числа молодых семей и, как следствие, частым разводам, отказам от родительства и т.п. Причинами этого чаще всего становятся психологическая неготовность молодых супругов к осуществлению родительских обязанностей и материальная несостоятельность: «Среди полных семей большим риском бедности выделяются молодые семьи: появление ребенка резко понижает материальную обеспеченность семьи. В России доля бедных семей возрастает с 26,1 % у бездетных молодых семей до 42,1 % у молодых семей с детьми» [4, c. 109]. Следует сделать акцент на том, что объектом статистики здесь являются именно полные семьи, у которых есть определенный запас прочности (например, работающий супруг вполне способен один материально обеспечить жену и детей). В качестве второй значимой проблемы можно отметить нехватку жилья, высокие ипотечные ставки, «заталкивающие» молодые семьи в бессрочные долговые ямы или обрекающие на жизнь в одном доме с родителями.
Таким образом, ощущается, что Россия встает перед ключевым вопросом: что важнее, демографические характеристики государства или качество жизни проживающих на его территории людей? Конечно, демографический прирост населения стратегически важен, но не важнее ли то, каков уровень жизни этих людей, т.е. в каких условиях и до какого возраста они доживают?
Насколько современное российское государство готово к увеличению плотности населения, говорить сложно. Для молодой семьи, помимо «неподъемной» ипотеки, существует проблема нехватки детских садов, школьных «поборов», увеличение количества высших учебных заведений, оказывающих только платные образовательные услуги. Некоторые из этих проблем существовали и в советские годы, однако имели иные контуры: образование было для всех бесплатным, но помимо нехватки дошкольных детских учреждений и школ, существовали и такие (отсутствующие в настоящее время) проблемы, как нехватка качественной детской одежды, предметов детской гигиены, ощутимый дефицит школьной формы и т.п.
Второй этап, который необходимо преодолеть молодой семье – это социализация ребенка, подготовка его к самостоятельной жизни в обществе. Полная молодая семья принципиально может справиться и с этой жизненной трудностью, но в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ситуация выглядит более сложной, поскольку механизмы передачи социально значимого опыта ослаблены или практически отсутствуют: «При существующем положении дел в интернатных учреждениях сироты не имеют надежд на благополучное устройство жизни, путь их во многом предопределен результатами воспитания (конформизм, безынициативность, уход от решения проблем, отсутствие значимых жизненных целей). Атмосфера в детских домах и интернатах характеризуется дефицитом общения детей со взрослыми, дефицитом ситуаций, требующих самостоятельного поведения, социальной активности, что приводит к появлению нарушений в процессе социализации» [5, c. 159].
Отсюда исходят дальнейшие проблемы, связанные у детей-сирот с неспособностью выстроить более или менее внятную траекторию жизненного пути, не говоря уж о матримониальном поведении и связанными с ним репродуктивными стратегиями. Жизненный путь корректируется в зависимости от успешности адаптации к самостоятельной жизни выпускников интернатных учреждений. Очевидно, что все эти «корректировки» в перспективе могут затянуться до тех пор, когда «материнский возраст» (или, как было уточнено выше, здоровье) или отсутствие психологической готовности вступить в длительные семейные отношения не позволят девушкам сформировать полноценную семью и родить здоровых детей.
В заключение следует сделать вывод о том, что проводимая в настоящее время социально-демографическая политика в России противоречива: с одной стороны, государство прилагает определенные усилия для повышения уровня рождаемости; с другой – социальное обеспечение качества жизни оставляет желать лучшего. Ряд выплат за рождение детей со стороны государства решает проблему прироста населения лишь отчасти, в первую очередь по причине слабой осведомленности населения о том, какие выплаты и в каком размере им причитаются. Нередко выплаты используются не по прямому назначению, но в качестве средства повышения уровня благосостояния девиантных семей. Некоторый подъем рождаемости в России осуществляется во многом за счет многодетных семей мигрантов, состоящих в законном браке и принявших российское гражданство.
Прежде всего, угроза бедности касается таких социально незащищенных слоев населения, как многодетные, неполные и молодые семьи. Отдельное внимание государство должно уделять формированию механизмов адаптации к самостоятельной общественной (и, прежде всего, семейной) жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ссылки:
-
1. Софронова Т.Г. Матримониальное поведение студенческой молодежи в России: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2011. 26 с.
-
2. Грудина Т.Н. Ценностные ориентации многодетной семьи в России: автореф. дис. … канд. соц. наук. М., 2014. 24 с.
-
3. Бредникова О. «Старородящая» молодая мать (институциональные игры с категориями возраста) // Новый быт современной России: гендерные исследования повседневности: коллективная монография. СПб., 2009. С. 456–472.
-
4. Корчагина И.И., Прокофьева Л.М. Методы измерения бедности и социально-демографическая структура бедного населения. // Демографические проблемы России: взгляд из прошлого в будущее (к 300-летию М.В. Ломоносова): материалы международной научной конференции 26–27 сентября 2011 г. СПб., 2012. 332 с.
-
5. Ловцова Н.И. Трансформация семейной политики в современной России. Саратов, 2005. 320 с.
Редактор: Богданова Дина Петровна
Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович
Список литературы Социально-демографическая политика в современной России: теоретические ожидания и реальная эффективность
- Софронова Т.Г. Матримониальное поведение студенческой молодежи в России: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2011. 26 с
- Грудина Т.Н. Ценностные ориентации многодетной семьи в России: автореф. дис. … канд. соц. наук. М., 2014. 24 с
- Бредникова О. "Старородящая" молодая мать (институциональные игры с категориями возраста) // Новый быт современной России: гендерные исследования повседневности: коллективная монография. СПб., 2009. С. 456-472
- Корчагина И.И., Прокофьева Л.М. Методы измерения бедности и социально-демографическая структура бедного населения. // Демографические проблемы России: взгляд из прошлого в будущее (к 300-летию М.В. Ломоносова): материалы международной научной конференции 26-27 сентября 2011 г. СПб., 2012. 332 с
- Ловцова Н.И. Трансформация семейной политики в современной России. Саратов, 2005. 320 с