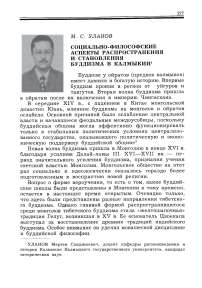Социально-философские аспекты распространения и становления буддизма в Калмыкии
Автор: Уланов Мерген Санджиевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Народы России: возрождение и развитие
Статья в выпуске: 4 (61), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ социальных причин и социально-философских оснований становления и распространения буддизма в Калмыкии. Рассмотрены различные аспекты взаимоотношений буддизма, Русской Православной Церкви и официальных органов государственной власти России на территории региона.
Короткий адрес: https://sciup.org/147223020
IDR: 147223020
Текст научной статьи Социально-философские аспекты распространения и становления буддизма в Калмыкии
Буддизм у ойратов (предков калмыков) имеет давнюю и богатую историю. Впервые буддизм проник в регион от уйгуров и тангутов. Вторая волна буддизма пришла к ойратам после их включения в империю Чингисхана.
В середине XIV в., с падением в Китае монгольской династии Юань, влияние буддизма на монголов и ойратов ослабело. Основной причиной было ослабление центральной власти и начавшиеся феодальные междоусобицы, поскольку буддийская община могла эффективно функционировать только в стабильных политических условиях централизованного государства, оказывавшего политическую и экономическую поддержку буддийской общине2
Новая волна буддизма пришла в Монголию в конце XVI в. благодаря усилиям Далай-ламы III. XVI—XVII вв. — период значительного усиления буддизма, признания учения светской властью Монголии. Монгольское общество на этот раз социально и идеологически оказалось гораздо более подготовленным к восприятию новой религии.
Вопрос о форме вероучения, то есть о том, какие буддийские школы были представлены в Монголии к тому времени, остается в настоящее время открытым. Очевидно только, что здесь были представлены разные направления тибетского буддизма. Однако главной формой распространившегося среди монголов тибетского буддизма стала «желтошапочная» традиция Гелуг, возникшая в XV в. Ее основатель Цзонкапа выступал за восстановление древних традиций индийского буддизма. Особое внимание он уделял монашеской дисциплине и буддийской философии.
УЛАНОВ Мерген Санджиевич, доцент кафедры регионоведения и истории Калмыкии Калмыцкого государственного университета, кандидат исторических наук.
Широкое распространение школы Гелуг среди монголов можно объяснить характеристиками этого направления тибетского буддизма. Реформаторская деятельность Цзонкапы была направлена на восстановление высокого социального статуса буддийской монашеской общины с помощью воссоздания традиций аскезы и философии раннего буддизма. Строгое соблюдение дисциплинарного кодекса Винаи, обязательное религиозно-философское образование монахов, последовательность в получении религиозного образования укрепляли духовный авторитет и статус монашества.
Важным фактором, способствующим широкому распространению Гелуг, стало введение пышной обрядности религиозных церемоний. Кроме того, Гелуг имела мощный материальный и идеологический фундамент для дальнейшего распространения школы. Была создана широкая сеть монастырей — образовательных и идеологических центров учения.
Распространению буддизма способствовали и социально-политические факторы. Новая религия закрепила сложившиеся социальные отношения и способствовала политическому союзу раздробленных княжеств между собой и другими буддийскими государствами. Единство религиозной идеологии способствовало укреплению идеи единства, создавая идеологическую основу, способную облегчить преодоление раздробленности и при наличии других благоприятных условий объединения страны. Принятием тибетского буддизма был закреплен союз светской и духовной власти. В основе этого события лежали политические интересы ханов и князей, убедившихся в важном значении союза с церковью. Таким образом, буддизм выступал как фактор политической интеграции в противовес раздробленности и сепаратизму.
На быстрое распространение Гелуг у ойратов повлияла и политическая история ойратского союза, особенности международного положения. В основном же предпосылки быстрого распространения Гелуг в ойратской среде были такими же, как и у монголов.
Утверждение новой религии невозможно без проникновения в массовое сознание, привыкшего к прежним обрядам и традициям. Поэтому наиболее плодотворным путем распространения буддизма стало включение ряда добуддийских культов, переработанных и наполненных новым содержанием.
Д. Д. Банзаров одну из причин быстрого распространения буддизма среди монгольских племен видел в «уступчивости буддийских проповедников, в их снисходительности к местным народным привычкам»3
Важная роль в распространении буддизма среди ойратов принадлежала Зая Пандите. Величайшее его достижение — создание в 1648 г. ойратской письменности «тодо бичиг». Совместно со своими учениками он перевел с тибетского на ойратский более 170 буддийских сочинений, из которых до нас дошло только 47. По мнению А. М. Позднеева, сохранившиеся ойратские переводы буддийской литературы «несравненно правильнее, толковее и вообще выше таких же переводов на язык монгольский»4
Создание национальной письменности — важный политический шаг в деле объединения ойрат, оно имело и практическое значение в деле просвещения и религиозной проповеди. Составленные переводы с тибетского языка на калмыцкий (ойратский), становясь доступным для каждого, послужили основой просвещения народа и сознательным проводником к пониманию и усвоению основ буддизма, а также положили начало самостоятельности ойратско-кал-мыцкой литературы. Осуществляя активную переводческую деятельность, формируя основу национальной литературной традиции, Пандита выдвинул буддизм в качестве одного из основных культурообразующих факторов, закладывая основу ойрат-калмыцкой культуры.
В начале XVII в. в ойратских улусах стали появляться кочевые и стационарные монастыри. Развалины ойратских хурулов найдены в долине Иртыша. Семипалатинск в Казахстане также назван в честь буддийского комплекса «Семь палат». Известным храмом XVII в. был монастырь Аблаин-кит. Появление стационарных монастырей свидетельствует о широком распространении буддизма среди ойратов.
Единство религиозной идеологии в то время не могло не способствовать укреплению идеи общеойратского единства, создавая некоторую идеологическую основу, способную облегчить преодоление раздробленности и при наличии других благоприятных условий объединить страну.
Войдя в состав России, ойрат-калмыки не утратили свою религию. Калмыцкие нойоны в первые десятилетия своего пребывания на Волге в вопросах религии и религиозной поли- тики целиком ориентировались на Лхасу, откуда присылались ламы-первосвященники, возглавлявшие церковную иерархию в Калмыкии, куда нойоны ездили на поклонение к Далай-ламе, везя с собой обильные подношения, в обмен получая почетные титулы и звания. Но затруднительность связи с Тибетом, поездка в который требовала огромных затрат и отнимала два-три года и больше, имела своим результатом постепенное ослабление контактов с верховным руководством ламаистской церкви. Поездки в Лхасу становились все более редкими, влияние Тибета падало. В конце XVIII в. его влияние свелось к минимуму. Поэтому организация ламаистской церкви в Калмыкии приобрела ряд особенностей, отличавших Калмыкию от других ламаистских стран.
Среди калмыков, как и среди ойратов в Джунгарии, не получил широкого распространения институт хубилганов, не сложилось у них централизованной церковной организации, а общая численность монастырей (хурулов) и монахов была относительно меньшей, чем в других ламаистских странах. В результате общее влияние церкви на жизнь калмыцкого общества не было столь исключительным, как в других странах. В отличие от Тибета и Монголии, церковная иерархия в Калмыкии была сравнительно мало развита.
Объяснение этому следует, на наш взгляд, искать в специфике военно-политического и географического положения ойратских владений в конце XVI — начале XVII в. Они обусловили менее тесные связи буддийской церкви Тибета и ойратских правителей, их меньшую в то время взаимную заинтересованность в союзе и взаимной помощи. На взаимоотношениях церкви и светской власти не могла не отразиться постепенная централизация светской власти в руках единодержавного хана. Вот почему в дальнейшем в Калмыцком ханстве не сложилось централизованной организации ламаистской церкви, подобно той, которая возникла на востоке Монголии5
Буддийское духовенство калмыков участвовало и в политических процессах. Формула союза светской и религиозной власти последовательно проводилась в жизнь в период расцвета калмыцкого государства. Основными направлениями политической деятельности буддийского духовенства в Калмыцком ханстве в XVII — начале XVIII в. становится организация взаимодействия нойонов формирующегося Кал- мыцкого ханства с правителями Джунгарии и Тибета, путем создания ойратского законодательства, осуществления посольских отношений силами представителей Сангхи, с целью объединения ойратских родов под тибетским идеологическим протекторатом. Калмыцкое духовенство, контактируя с российской администрацией и легитимируя систему шертных договоров, принимало участие в формировании политических отношений калмыцких правителей и российской власти.
Достаточно независимое существование Калмыцкого ханства не устраивало царизм. Во второй половине XVIII в. началось планомерное наступление на калмыцкую автономию. Одновременно усилилась колонизация Нижнего Поволжья, активизировалась миссионерская деятельность Русской православной церкви. Все это привело к откочевке в 1771 г. большей части калмыков в Джунгарию.
После 1771 г. позиции буддизма в Калмыкии ослабли, так как вместе с ушедшими калмыками откочевало большинство хурулов и лам. Религиозные связи с Тибетом почти прекратились. Вновь стали возрождаться шаманские культы и традиции. Это, а также мероприятия российского правительства способствовало изменению обрядности. По мнению А. М. Позднеева, обрядовая сторона буддизма у калмыков была выражена значительно сильнее, чем у монголов, которые из-за недостатка гелонгов очень редко отправляли у себя обряды. Калмыки почти по любому поводу обращаются к ламам. Молитвы по частным просьбам у них значительно популярнее коллективных служб. В результате у калмыков существуют обряды, неизвестные в других буддийских регионах6
После ликвидации Калмыцкого ханства буддийское духовенство, согласно специально принятым законоположениям Российского государства, обрело четкую структуру, но одновременно с самого начала XIX в. правительство стало предпринимать меры по сокращению штатов священнослужителей с целью ограничения влияния духовенства на народ. Тем не менее, миссионерская политика, направленная на христианизацию калмыцкого населения, не имела особых успехов. Большинство калмыков продолжали оставаться буддистами7
В целом можно отметить, что для политики российского правительства по буддийскому вопросу были характерны, с одной стороны —- стремление российских властей подчинить буддизм государственным нуждам, с другой — постепенное замещение его православием — главной идеологической опорой самодержавия.
Царское правительство, предпринимая шаги к уменьшению количества хурулов и числа духовенства, объясняло это тем, что «ни в одной нации не было и нет столь великого, несоразмерного числу народа духовенства, какое существует в калмыцком народе», а также тем, что данная мера будет способствовать росту благосостояния калмыков. Сокращая количество хурулов и численность его служителей, правительство пыталось уменьшить, а по возможности и ликвидировать сопротивление буддийской церкви и духовенства, оказываемое ими православной миссии, что являлось одним из наиболее наглядных проявлений христианизаторской политики царизма8
Одновременно Правительство сочетало политику ограничения с некоторыми поощрениями — подарками, наградами, сумело привлечь на свою сторону калмыцкое духовенство. Оно было освобождено от повинностей, телесных наказаний, воинской службы. Царская администрация рекомендовала своим представителям на местах «...при ограничении числа хурулов и духовенства не отступать от древних обычаев, не стеснять религиозных прав народа»9.
Политика царизма в области ограничения влияния буддизма не имела успеха. Калмыцкое духовенство оказывало сопротивление ограничительной политике царизма. Для сохранения числа хурулов они были поделены на большие и малые. Каждой монастырской постройке придавался статус храма. Во второй половине XIX в. появился институт ху-рульных учеников, число которых трудно было определить. В него входили и священнослужители, попавшие под сокращение10 В результате реально существовало большее количество хурулов и лам, чем это предусматривало Положение 1847 г. Калмыцкое духовенство продолжало строить новые храмы и кумирни. К началу XX в. насчитывалось более 92 хурулов, что значительно превысило разрешенное количество. Возросло и число калмыцких лам11
По мнению А. М. Позднеева, реформы, направленные на ослабление позиций буддизма, часто приводили к совершенно обратным результатам. Так, утверждение верховных лам правительством сделало их несменяемыми. Они фактически приравнивались к государственным чиновникам, что поднимало их статус. Калмыки теперь стали воспринимать буддийское духовенство в качестве официальной власти, что препятствовало прозелитизму Русской православной церкви. Стремясь лишить калмыцкую церковь величия, было существенно сокращено число высших лам. Переход в 40-е гг. XIX в. всей религиозной власти в руки одного лица — Ламы Калмыцкого народа, который утверждался правительством России, лишь сплотило буддийскую церковь Калмыкии, устранив в ней разногласия12
Достаточно скромными, как по охвату массы народа, так и по степени усвоения догм, были и успехи христианской миссии среди калмыков. Основными причинами малой эффективности христианской миссии среди калмыков следует считать те же самые, что обусловили неудачи православных миссионеров, действовавших среди других народов, населявших Российскую империю. Однако, при сравнении итогов христианизации калмыков с аналогичной деятельностью православных миссий в других регионах страны, выявляются особенности.
Православная миссия среди калмыков столкнулась не с родоплеменными верованиями, а с хорошо организованной буддийской церковью, идеология которой отвечала потребностям уже сложившихся феодальных отношений в кочевом калмыцком обществе. Калмыцкий буддизм был сильным и опытным соперником российской православной церкви уже хотя бы потому, что сам имел многовековой опыт контакта с иными религиозными системами и отработал методику взаимоотношений с ними в зависимости от того, были это языческие культы первобытного и раннеклассового общества или развитые религиозные системы мирового уровня, каким являлось христианство13
В начале XX в. в России происходит процесс либерализации религиозной политики. Почти все ходатайства калмыцкого духовенства удовлетворялись правительством полностью. На это изменение курса правительства по отношению к религиозной жизни калмыков и других инородцев повлияла, по-видимому, первая русская, буржуазно-демократичная революция14. Воспользовавшись либерализацией религиозной политики России, калмыцкие буддисты активизировали кон- такты с другими буддийскими регионами: Бурятией, Монголией, Тибетом. Это дало новый импульс развитию буддизма в Калмыкии. Неоднократно ставились вопросы о расширении системы хурульных школ, преподавании основ буддизма в светских школах. Восстанавливались традиции получения образования в монастырях Тибета, традиции паломничества13 Возникает обновленческое движение, направленное на очищение буддизма от несвойственных ему, элементов: суеверий, невежества, корыстолюбия, стяжательства и т. д. Обновленцы стремились повысить образовательный уровень лам, возродить нравственную чистоту раннего буддизма, донести буддийское учение до простого народа. Известным представителем обновленческого движения был Бован Бадма, автор поэмы «Услаждение слуха».
Стремление к духовному обновлению и углублению образования отразилось в неоднократных обсуждениях на съездах духовенства вопросов об открытии типографий, новых высших конфессиональных школ, а также о получении светского образования наиболее способными священнослужителями в российских университетах.
Таким образом, буддизм получил широкое распространение среди ойратов во многом потому, что оказался близок их менталитету. Жизнь кочевника на просторах бескрайней степи, где мало что отвлекает внимание, способствовала формированию созерцательного и космического сознания, свойственного буддизму. Свободолюбивым кочевникам была близка мягкая буддийская религия, не устанавливавшая жесткого регулятора образа мышления и поведения, тем более что буддизм не стал полностью отвергать привычные культы и обряды, а лишь ассимилировал их, наполнив новым содержанием.
Принятие буддизма ойрат-калмыками знаменовало собой качественно новый этап в развитии их культуры. Буддизм в своей центрально-азиатской форме стимулировал развитие различных форм духовной жизни общества. С принятием буддизма возникла национальная письменность, религиозная живопись и архитектура, храмовая музыка и танцы, калмыки приобщились к богатейшей буддийской литературе, познакомились с индийской философией и тибетской медициной. Буддийские школы при хурулах сыграли исключительно большую роль в просвещении калмыцкого народа.
Буддизм способствовал формированию у калмыков нового типа личности. Знакомство с буддийской философией и этикой способствовало тому, что у воинственных ранее кочевников стали распространяться такие качества, как мягкость, приветливость, доброжелательность, терпимость, деликатность при сохранении собственного достоинства. Терпимость к чужим культурным и религиозным ценностям, способность воспринять все лучшее, что создано другими культурами, отсутствие претензий на исключительность — особенности буддизма, способствовавшие установлению калмыками добрососедских отношений с другими народами.
Список литературы Социально-философские аспекты распространения и становления буддизма в Калмыкии
- Дорджиева Г. Ш. Буддизм и христианство в Калмыкии. Элиста, 1995. С. 18-19.
- Банзаров Д. Д. Собр. соч. М., 1955. С. 55.
- Позднеев А. М. Калмыцкое вероучение // Энциклопед. словарь. Т. 14. СПб., 1895. С. 72.
- Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635-1758). М., 1964.
- Позднеев А. М. Калмыцкое вероучение... С. 74.