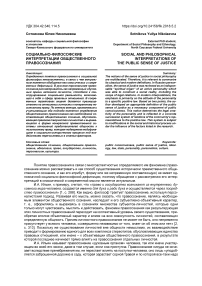Социально-философские интерпретации общественного правосознания
Автор: Сотникова Юлия Николаевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2018 года.
Бесплатный доступ
Определения понятия правосознания в социальной философии многоаспектны, в связи с чем актуальным является обобщение его классических и современных дефиниций. В русском персонализме правосознание рассматривалось как непременный «духовный орган» активной личности, способной к конструированию социальной реальности, включающей в себя и сферу правовых отношений. В современных трактовках акцент делается преимущественно на отношении личности к конкретному позитивному праву. По мнению автора, приемлемым и учитывающим оба подхода является определение общественного правосознания как необходимой составляющей общественного сознания, обусловливающей правовое творчество личностей и выражающейся в форме конкретной преемственной системы отношений представителей общности к позитивному праву, которая подвержена модификациям в социально-историческом процессе под воздействием перечисляемых в статье факторов.
Общественное сознание, общественное правосознание, идеология, право, государство, личность, персонализм, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14941504
IDR: 14941504 | УДК: 304.42:340.114.5 | DOI: 10.24158/fik.2018.5.2
Текст научной статьи Социально-философские интерпретации общественного правосознания
ПРАВОСОЗНАНИЯ
Понятие правосознания в связи с многоаспектностью определяемого им феномена (правосознание можно рассматривать и как способ существования исторически преемственного общественного сознания, и как его атрибут, форму или же непременную составляющую) не имеет однозначной социально-философской дефиниции, поэтому обращение к рассмотрению его интерпретаций в классической и современной мысли является актуальным.
И.А. Ильин, к примеру, считал, что « право и государство возникают из внутреннего, духовного мира человека , создаются именно для духа и ради духа и осуществляются через посредство правосознания » [1, с. 288]. Как видно, философ трактует правосознание, используя персоналистский подход. Развивая его мысль, можно сказать, что правосознание, являясь необходимым элементом общественного сознания, наследует и его субъективно-объективный характер, т. е., оформляясь и выражаясь в сознаниях множества субъектов-личностей, которые одни только могут чувствовать, мыслить и действовать, феномен правосознания как результирующая этих личностных правосознаний переходит на коллективный уровень своего существования, приобретая вполне объективный характер и влияя на всю совокупность личностей, составляющих определенную общность. Причем личностного правосознания не может не быть, оно непременно присутствует у всякого человека, «совершенно независимо от того, знает он об этом или нет» [2, с. 313]. Поскольку же существование личностей вне общности немыслимо, их взаимодействие приводит к формированию единого для всех комплекса стереотипов, обусловливающих единство правовых отношений, или иначе – к объективации общественного правосознания, в результате которой последнее начинает прямо влиять на правосознания отдельных личностей.
И.А. Ильин называет правосознание «духовным органом» человека, так или иначе участвующим во всей его жизни, даже в том случае, если она преступна. Правосознание никуда не исчезает вследствие пренебрежения им, не перестает влиять на поступки человека, оно лишь «уподобляется заброшенной дорожке в саду, которая зарастает сорной травой и по которой все-таки надо ходить» [3, с. 314]. В трактовке правосознания мыслителем обращает на себя внимание оригинальность подхода: он понимает правосознание не только как формирующееся у человека отношение к уже существующему вне него праву, не только как следствие постижения и приятия/неприятия позитивного права (такое понимание традиционно), но прежде всего - как «творческий источник права, живой орган правопорядка и политической жизни. Каждый закон, каждый указ - возникает в правосознании и является его плодом - то зрелым, то незрелым, то полезным, то вредным. Каждый закон, возникнув из правосознания властвующих людей, обращается к правосознанию множества подчиненных людей...» [4, с. 314-315]. Из приведенной цитаты видно, что личностное правосознание философ разводит по двум уровням: правосознание представителей властной элиты, способных к непосредственному законотворчеству, и правосознание остального большинства граждан, не имеющих возможности прямо влиять на формирование правовых норм, однако обусловливающих их жизнеспособность посредством приятия, утверждения в общественном сознании или, наоборот, прямо или косвенно способствуя изменению позитивного права.
И.А. Ильин вводит в философский лексикон новый термин, когда пишет: «...пусть всякое действующее, положительное право… будет освещено и облагорожено лучами, исходящими из глубины естественного... правосознания» [5, с. 323]. Понятие естественного правосознания у него при этом явно перекликается с понятием естественного права, распространенным в правовых теориях Нового времени. При этом по содержанию эти понятия не совпадают, расходясь по своему смыслу: «естественные права», довлеющие над человеком, обусловливают постепенное формирование позитивного права, внешнего для каждой личности, тогда как «естественное правосознание», о котором говорит мыслитель, основывается на некотором внутреннем глубинном воленаправлении человека, на «чувстве права», «правовой интуиции», или «правовой совести», с которой следует совещаться во всех правовых делах, поскольку она способна сформировать представления о лучшем, справедливом праве. Естественное правосознание не дает человеку законов в завершенной форме, однако оно показывает направление для творческого преобразования правовых реалий. При этом, что важно, направленность эта задается не извне, а изнутри человека, не обусловливается условиями, над которыми личность не властна, а исходит из ее духовных глубин.
Таким образом, используя персоналистский подход, в целом свойственный русской религиозной философии конца XIX - начала XX в., И.А. Ильин приходит к особенной трактовке феномена правосознания, отличающейся во многом от распространенных как в его время, так и сегодня трактовок. Отличие это прежде всего состоит в том, что правосознание рассматривается им как непременный «духовный орган» активной личности, способной к конструированию духовной реальности, включающей в себя и сферу правовых отношений, а не просто к пассивному следованию сложившимся условиям социальной жизнедеятельности.
Современные исследователи подходят к определению правосознания с различных сторон. Так, М.Ю. Зырянов трактует правосознание в социокультурном аспекте, как « укорененное в культуре отношение к обществу и собственному месту в нем, связанное с оценкой действующих законов » [6, с. 17]. Эта дефиниция, на наш взгляд, является очень общей, следовательно, малосодержательной. Но основное представление о правосознании она все же дает - автор обращает внимание: на его укорененность в культуре, имплицитно связанную с концептом преемственности; на конкретность правосознания (следующую из предпосылки культурного многообразия); на оценку действующих законов. Однако акцентируем внимание на том, что правосознание рассматривается в приведенном определении как отношение личности (-ей), что в целом свойственно общемировой практике, при этом полностью игнорируется оригинальный концепт творческого конструирования личностью (-ями) правовой реальности, выработанный в русском персонализме.
Более емкое по своему содержанию определение представлено К.В. Науменковой, которая пишет: «...правосознание - это знание о системе права, оценка действующей системы права и мысли о желаемых или предполагаемых изменениях в ней с позиций индивидуальной справедливости, которая приобрела глубокий жизненный смысл и значение для большей части общества, т. е. правосознание - результат отражения объекта и средство воздействия на объект» [7, с. 12]. Здесь наряду с определением правосознания как оценки действующего права («отражение объекта») присутствует также активно-личностная характеристика - правосознание личности (общности) рассматривается и в качестве средства воздействия на отражаемый в нем объект (право). Также обращается должное внимание на этическую категорию справедливости, устанавливающую зависимость права от нравственности («...если правовая рецептура соответствует моральным нормам данного общества, то мы можем говорить о ее справедливости» [8, с. 146]). В целом же дается субъективно-объективное понимание феномена правосознания.
Объединяя важные элементы вышеприводимых определений и добавляя значимый в аспекте персоналистского подхода концепт правового творчества, подразумевающего относительно свободное конструирование личностями правовой реальности, можно представить следующую интерпретацию: «Общественное правосознание есть необходимая составляющая общественного сознания, обусловливающая правовое творчество и выражающаяся в форме конкретной преемственной системы отношений представителей общности к позитивному праву».
К.И. Руденко, выявляя структуру правосознания, находит, что в ней «органически переплетаются познавательный, эмоциональный и деятельностный компоненты», с чем нельзя не согласиться, как и с тем, что «структурными элементами правосознания выступают: 1) субъект; 2) предметная область – система правовых координат; 3) установки, стереотипы, мифы, служащие инструментами познания права; 4) эффекты сознательной деятельности субъекта в сфере социально-правовых отношений». Автор обращает внимание на то, что уровень усвоения права в обществе «может служить дифференцирующим фактором в социуме – от правового нигилизма (или низкого уровня правосознания) до полностью сформированного правосознания» [9, с. 16–17]. Обратим внимание на то, что во всяком конкретном обществе этот дифференцирующий фактор всегда присутствует и определенная его часть выпадает из контекста конструктивного правосознания, подпадая под влияние правового нигилизма. Но такое «выпадение» означает и дистанцирование этой части общества от основных трендов общественного сознания, свойственных данному этапу его развития. Нонконформистские личности были и будут в любом обществе, из чего можно сделать вывод о том, что когда мы говорим о высоком уровне правосознания в той или иной общности, то должны иметь в виду не единогласное приятие конкретной правовой системы, а ее признание большинством. К тому же среди этого большинства отношение к праву также не может быть однозначно конформистским, ведь даже понимание необходимости несовершенного права и его признание в качестве средства улучшения правовой ситуации свидетельствуют о высоком уровне правосознания личности.
На важный культурологический момент в понимании правосознания обращает внимание С.С. Фоменко: «Культура правосознания личности является основой превращения представлений (как наиболее общих и первичных образов – продуктов рефлексии) о морали, праве, нравственности, образцах и идеалах, возникающих в сфере правового сознания, в убеждения , т. е. внутренне детерминированные (обоснованные, аргументированные) результаты критического мышления, полученные в процессе личностного самоопределения и самоидентификации» [10, с. 11]. Концепт культуры правосознания, действительно, очень важен, однако мы не можем согласиться с трактовкой автором понятий «представления» и «убеждения», в соответствии с которой первое понятие превращается во второе вследствие работы критического мышления и основой такого превращения является культура правосознания. Представления, на наш взгляд, неправомерно понимать как наиболее общие и первичные образы рефлексии. Они, действительно, могут сильно отличаться от реальности, однако именно они обусловливают связь между нашим сознанием и предметами окружающего мира, и другой связи нам не дано природой. Разумеется, для действенности наших представлений о мире необходима вера в них, но на вере основаны также и убеждения, которые автор, по нашему мнению, неосновательно определяет как «внутренне детерминированные (обоснованные, аргументированные) результаты критического мышления».
Между тем Т.И. Ойзерман, характеризуя феномен мировоззрения, писал: «Всякое мировоззрение складывается из убеждений. Они могут быть истинными или же, напротив, мнимыми… Убеждения характеризуются прежде всего той энергией, настойчивостью, решительностью, с которыми они высказываются, обосновываются, защищаются, противопоставляются другим убеждениям» [11, с. 578–579]. Убеждения, возникающие у личностей и отстаиваемые ими, являются результатом функционирования в общественном сознании идеологий, фундирующихся конкретными религиями, квазирелигиями, идеологизированными философско-мировоззренческими системами, поэтому идеологические представления и являются тем контекстом, в котором разворачиваются социальные трансформации. С этим, кажется, согласна и С.С. Фоменко, когда утверждает, что «объективный характер институциональных изменений во многом верифицирован субъективными предпочтениями отдельных личностей и социальных институтов, оказывающих определяющее воздействие на развитие индивидуального и общественного мировоззрения» [12, с. 19–20].
Таким образом, в социально-философском аспекте допустимо рассматривать общественное правосознание как необходимую составляющую общественного сознания, обусловливающую правовое творчество и выражающуюся в форме конкретной преемственной системы отношений представителей общности к позитивному праву. Преобладающее положительное отношение к правовой системе характеризуется таким показателем, как высокий уровень правосознания, доминирующее отрицательное отношение – как его низкий уровень [13]. Важнейшими же глубинными факторами динамики правосознания являются: изменения правового менталитета («характера “мыследействий”» [14, с. 185] субъекта в правовой области); языковые трансформации; мировоззренческие изменения, модифицирующие и даже заменяющие традиционные идеологии; вариации степени влияния конкретных нравственных систем на общественное сознание и/или исторически необходимые модификации нравственных систем; изменения уровня личностной правовой культуры, формирование которой находится в прямой зависимости от воспитательно-образовательного процесса.
Ссылки:
Список литературы Социально-философские интерпретации общественного правосознания
- Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М., 2003. 694 с.
- Ильин И.А. Почему мы верим в Россию: Сочинения. М., 2006. 912 с.
- Зырянов М.Ю. Правосознание в условиях современного российского общества (социально-философский аспект): автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2012.
- Науменкова К.В. Российское правосознание: специфика, структура, динамика: автореф. дис. … канд. филос. наук. Красноярск, 2013.
- Лагунов А.А. Русская религиозная философия: божественное и человеческое: монография. Ставрополь, 2007. 202 с.
- Руденко К.И. Социологическое исследование деформаций правосознания российской молодежи в условиях социокоммуникативных трансформаций начала XXI в.: автореф. дис. … канд. социол. наук. Краснодар, 2015.
- Фоменко С.С. Формирование культуры правосознания личности в условиях институциональных трансформаций: автореф. дис. … канд. филос. наук. Екатеринбург, 2015.
- Ойзерман Т.И. Мировоззрение//Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 2. М., 2010. С. 578-579.
- Jasso G., Resh N. Exploring the Sense of Justice about Grades//European Sociological Review. 2002. Vol. 18, no. 3. P. 333-351. https://doi.org/10.1093/esr/18.3.333.
- Смирнов А.Ю., Лагунов А.А. Определение этноментальных характеристик российского правосознания как актуальная проблема социальной философии//Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2011. № 2. С. 184-187.