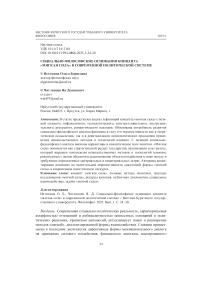Социально-философские основания концепта «Мягкая сила» в современной политической системе
Автор: Истомина О.Б., Чиглинцев Я.Д.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ дефиниций концепта «мягкая сила» с позиций силового, инфлюентного, технологического, конструктивистского, инструментального, ресурсного, романтического подходов. Обоснована потребность развития социально-философского анализа феномена в силу его перспективности как в теоретическом осмыслении, так и в ревитализации дипломатических принципов применения ненасильственных методов и технологий влияния. С позиций социально-философского анализа внесены коррективы в семантическое поле понятия. «Мягкая сила» понимается как стратегический ресурс государства, организации или группы, который выражен комплексом ненасильственных методов и технологий влияния, реализуемых с целью обеспечить расположение объекта воздействия в свою пользу и требующих определенных материальных и нематериальных затрат. Авторами акцентировано внимание на значительной перспективности диалоговой формы «мягкой силы» в современном политическом дискурсе.
Концепт "мягкая сила", силовые методы политики, подходы исследования "мягкой силы", ресурсы влияния, публичная дипломатия, социальное взаимодействие, задачи "мягкой силы"
Короткий адрес: https://sciup.org/148331668
IDR: 148331668 | УДК: 101.1(314+316) | DOI: 10.18101/1994-0866-2025-1-24-30
Текст научной статьи Социально-философские основания концепта «Мягкая сила» в современной политической системе
Истомина О. Б., Чиглинцев Я. Д. Социально-философские основания концепта «мягкая сила» в современной политической системе // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2025. Вып. 1. С. 24–30.
Введение. Современная социально-политическая реальность, характеризуемая аморфностью отношений и амбивалентностью ценностных оснований в политических решениях, кризисами дипмиссий, актуализирует поиск и расширение методов «мягкой», диалогизированной формы взаимодействия. Ставшие привычными в последние десятилетия директивные формы межнационального диалога на принципах силового воздействия, финансового шантажа, массированного нелигитимного вмешательства во внутренние дела сторонних государств утратили свою эффективность и вызывают отторжение на всех уровнях, политическом, экономическом, социальном, финансовом, социокультурном и даже межличностном. Длительные периоды массированных информационных атак и санкционной политики вызвали не только экономическую «усталость», но и отторжение на психоэмоциональном уровне. Силовые методы в осуществлении интересов государств по-прежнему занимают одно из лидирующих мест во внешней политике, но заметно теряют свой потенциал на фоне изменений социальных настроений и политической повестки. «Взаимодействие на современной политической арене допускает принципы иррациональности и амбивалентности морали. Во многом ревитализированы принципы макиавеллизма... Неопределенность текущей реальности позволяет открыто объявлять о реальной цели политических решений и санкций — вовлечь государство в длительный военный конфликт и обескровить его экономику» [1, с. 4].
Экзистенциальные угрозы современности объективно возвращают к ресурсам «мягкой силы», предлагают отличные от действующих сценариев варианты социального взаимодействия. Актуальность новых вариаций и ревитализация принципов концепта «мягкая сила» обусловливают необходимость его социально-философского осмысления и возвращения в текущие и будущие политические практики.
Постановка проблемы. Концепт «мягкая сила» содержит в себе ряд важных для исследования аспектов. Во-первых, в отличие от силового принуждения он позволяет государствам развивать стратегии, основанные не только на реализации внешнеполитических интересов, но и на создании благоприятного образа и имиджа страны-субъекта «мягкой силы». Во-вторых, инструментарий концепта выражается в использовании культурных, идеологических, экономических, образовательных и других программ, способствующих повышению привлекательности и авторитета в глазах иностранных государств и мирового сообщества. Значительный потенциал мягкой силы не только в отношении политических проблем, но и вопросов социокультурного пространства определяет задачи данного исследования. Заслуживают внимания новеллы дефиниции мягкой силы, вариативность подходов исследования данного феномена, его задачи и формы реализации. При этом важен не только диахронический анализ для уточнения терминологического ряда, но и структурно-синхронический — для внесения коррективов ввиду текущих стремительных изменений политической повестки. Однозначно структурно-синхронический анализ обладает потенциалом, который невозможно переоценить для привлечения новых источников и ресурсов «мягкой силы» и решения национальных задач России на внутреннем рынке и в диалоге с внешними партнерами и оппонентами.
Принципы дефиниции концепта «мягкая сила». Ресурсность «мягкой силы», ее перспективность в системе политических решений определяют полиаспект-ность исследований феномена. На текущем этапе развития общества доказали свою основательность и применимость к решению социально-политических задач несколько научных подходов, определивших разность, иногда противоречивость трактовок. Рассмотрим наиболее значимые для современного социально-политического дискурса подходы.
Силовой подход трактует «мягкую силу» как способ властвования. В определении сути концепта О. Ф. Русакова акцентирует внимание на глаголе «властвовать» [5]. Вопрос в том, уместно ли употребление этого слова в контексте «мягкости» и «ненасильственности». Очевидна антонимичность принципа и его трактовки.
Влиятельный , или инфлюентный, подход «мягкость» выражается в привлекательности страны-инициатора и процесса влияния. Сложность составляет понимание контуров привлекательности. В научном дискурсе два противоречивых мнения на этот счет. В первом случае утверждается, что «мягкая сила» лишь переменная величина, во втором случае постоянная. Если «мягкая сила» — это переменная, следовательно, существует и объем ее измерения. Данный объем тем выше, чем больше отражает потребности определенной аудитории. Так, например, для населения Грузии привлекательность христианских европейских стран будет выше привлекательности богатых стран мусульманского мира. В то время как жители Туркменистана гораздо чаще выбирают Турцию для миграции, нежели Россию. Говоря о постоянной величине, следует выделить отдельные элементы, которые одинаково привлекательны для всех, независимо от этнических, культурных и религиозных различий. В этом случае, к примеру, привлекательность может выражаться в высоких экономических и социальных показателях субъекта «мягкой силы».
Принципы технологического подхода позволяют выделить комплекс технологий воздействия на политический дискурс. Полагаем, если комплекс инструментариев силовых приёмов достижения расположения объекта влияния априори запрограммирован на причинение определённого урона последнему, то для методов «мягкой силы» такие результаты недопустимы. Задачи «мягкой силы» состоят в минимизации негативных экономических, политических, дипломатических и иных последствий.
Как метод результативной коммуникации транскрибируется коммуникативный подход . Суть его в коммуникативном, нередко манипулятивном, воздействии на образ мысли и поведение объекта. М. В. Харкевич определяет концепт как первоочередное обеспечение коммуникативных взаимоотношений между странами-акторами [7].
Конструктивистский подход характеризует феномен «мягкой силы» такими свойствами, как первостепенность сущностных характеристик явления, сила его воздействия на когнитивные процессы объектов воздействия, возможности манипулятивного воздействия с целью эффекта мимикрии слабым поведения сильного агента. Так, Е. П. Панова ставит под сомнение объективность существования нашей реальности: объективное функционирование ее социальных структурных компонентов не является таковым, поскольку это все результат социального конструирования [4].
Широкую популярность после 2013 г. в Российской Федерации приобрел инструментальный подход , который позволяет определять явление как комплекс инструментов невоенной реализации внешней политики. На основе анализа положений «Концепции внешней политики Российской Федерации»1 М. В. Харкевич определяет семантические границы термина как комплекс мер, включая пропаганду, лоббирующих интересы информационной войны [7].
В условиях поиска современных, отвечающих уровню и характеру вызовов заслуживает внимания ресурсный подход . Его ценность в понимании и принятии ресурсов влияния, а также определенных технологий для их реализации в системе политического взаимодействия. «Мягкая сила» понимается как пул ресурсов социально-гуманитарного характера [3]. К примеру, в пределах данного подхода дефиниции — технологии трансляции гуманитарных ресурсов на мировую аудиторию.
Не имеет большого веса в методологии вопроса, однако представлен научными изысканиями романтический подход . Его сущность связана с субъективными показателями так называемой высокой привлекательности культуры государства, ее системы политической организации и программы осуществления власти. Специфика подхода в его чрезмерной идеалистичности, далекой от реализуемой в международном праве концепции силового и санкционного воздействия.
Принимая во внимание сложность категории, терминологическое разночтение в социально-гуманитарном знании, предлагаем некоторые уточнения дефиниции. Считаем обоснованной примордиальную роль социально-философского подхода в осмыслении концепта. Социально-философское понимание феномена дает перспективы синтеза действующих программ и включенности инструментов аксиологии, праксеологии в программы исследования и прикладной корректуры для решения национальных задач. Подход также позволяет обеспечивать прогно-стичный потенциал феномена. Итак, «мягкая сила» — это стратегический ресурс государства, организации или группы, который выражен комплексом ненасильственных методов и технологий влияния, реализуемых с целью обеспечить расположение объекта воздействия в свою пользу и требующих определённых материальных и нематериальных затрат. Очевидно, что в спектр действия «мягкой силы» включены социальные институты культуры, науки и образования.
Задачи «мягкой силы». Высокая контагиозность феномена при соблюдении внешних границ и рекомендаций дипломатической миссии определяет фундаментальную задачу «мягкой силы» в создании благоприятного образа актора, привлечении агентов к развитию тесного сотрудничества, а также стимулированию к активному поиску общих точек соприкосновения, которые могут проявляться:
– в создании единого экономического пространства;
– осуществлении программ научного сотрудничества и обмена студентами;
– расширении межкультурных коммуникаций;
– развитии и поддержании туристической привлекательности;
– реформировании административного аппарата и т. д.
Для этого субъект влияния имеет в своём распоряжении экономические, технические, культурные, научные, дипломатические и иные инструменты. Рациональное применение этих инструментов способствует достижению результата, воплощающегося в уважении и взаимопонимании на международной арене, в преимуществе в переговорных процессах.
Среди наиболее перспективных направлений реализации принципов концепта «мягкая сила» О. В. Столетов выделяет сохранение прочности уже существующих объединений, а также поиск и формирование новых альянсов; гуманитарную и технологическую поддержку развивающимся странам; территориальное и отраслевое расширение принимаемых мер, направленных на развитие общественной и публичной дипломатии; проведение результативных мероприятий, способствующих экономической интеграции и распространению инноваций [6].
Диалоговая форма «мягкой силы» в политическом дискурсе . Воплощение методов в ведении внешней политики, отражающих предмет «мягкой силы», базируется на постулатах, которые исключают способы и инструментарии принуждения. Имманентная его часть уже имеет устойчивый характер и определяется наличием таких особенностей, как участие объекта «мягкой силы» сугубо на добровольных началах, а также конструирование привлекательного образа субъекта «мягкой силы», призванного вызывать симпатию в глазах акторов международных отношений.
Результаты «мягкой силы» более ощутимы при реализации формата диалога. Практичность диалога в реализации механизмов «мягкой силы» объясняется высокой эмпатийностью принципа, а также возможностью синхронно решать задачи характера речевого события, речевой ситуации, речевого взаимодействия и, конечно же, партнеров по коммуникации. Диалоговая форма ориентирует на учет гуманистических ценностно-мировоззренческих установок, опору на культурно-нравственные основания ведения диалога, а также поиск общих ценностных оснований диалога. «В идее диалогичности культуры как диалога личностей и их сознания формируется новая культура общения, согласно которой сознание другого человека становится внутренне насущно нашему собственному сознанию и бытию. Только наличие взаимоотношений, дающих субъекту осознание своей определенности, своих границ, позволяет ему порождать в себе и в других изменения. Имманентно принадлежащие субъекту свойства начинают характеризовать самого субъекта только в результате взаимодействия» [2, с. 95–96].
Заключение. Растущая потребность внедрения и укоренения в социальнополитической практике принципов концепта «мягкая сила» в условиях тотальной неопределенности объясняется деструктивными «изменениями риторики и деструктивными трансформациями самого дипломатического дискурса, который демонстрируют действие неопределенности, сиюминутность решений и выгод без расчета долгосрочных планов на перспективу» [1, с. 4].
Требуют ревитализации принципы публичной дипломатии как значимой формы «мягкой силы», несущей в себе функции демонстрации системы ценностей страны-инициатора. Публичная дипломатия отражает активность государства во внешнеполитической деятельности, направленной на установление каналов межгосударственной коммуникации, что благоприятно сказывается и на внутриполитических процессах. В основе феномена диалоговый формат взаимодействия: «диалог не только помогает осознать собственную и чужую систему стереотипов, но также утверждает новые правила собственной жизни, позволяет осуществлять рационализацию межкультурных форм жизни» [2, с. 96].
На наш взгляд, механизм осуществления концепта «мягкая сила» может выражаться в функционировании наднациональных международных организаций. Участие страны в подобных организациях также вписывается в сущность реализации публичной дипломатии. Системная демонстрация какого-либо государства как важного участника международных отношений (в рамках членства в той или иной международной организации) способствует созданию образа государства как политической единицы, включенной в процесс принятия важных решений, нередко носящих глобальный характер.