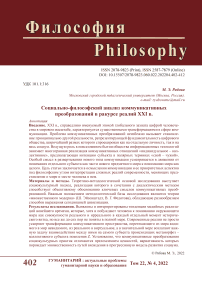Социально-философский анализ коммуникативных преобразований в ракурсе реалий XXI в.
Автор: Рябова Марина Эдуардовна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. XXI в., справедливо именуемый эпохой глобального захвата цифрой человечества в мировом масштабе, характеризуется существенными трансформациями в сфере коммуникации. Проблема коммуникативных преобразований неизбежно вызывает становление принципиально другой реальности, репрезентирующей фундаментальность цифрового общества, широчайший размах которого спроецирован как на отдельную личность, так и на весь социум. Ведущую роль в повседневном бытии общества информационных технологий занимает многогранная реализация коммуникативных отношений «индивидуальное - коллективное», предполагающая интенцию субъекта в полярных терминах «свой - чужой». Особый смысл в развертывании нового типа коммуникации усматривается в движении от понимания отдельного субъекта как части нового предметного мира к пониманию мира как целого. Цель статьи заключается в осмыслении коммуникации и ее приоритетных аспектов под философским углом интерпретации сложных реалий современности, меняющих представление о мире и месте человека в нем. Материалы и методы. Теоретико-методологической основой исследования выступает социокультурный подход, реализация которого в сочетании с диалектическим методом способствует объективному обоснованию ключевых смыслов коммуникативных преобразований. Важным положением методологический базы исследования являются теории «множественного модерна» (Ш. Эйзенштадт, В. Г. Федотова), обладающие разнообразием способов выражения сегодняшней цивилизации. Результаты исследования. Выявлены и интерпретированы тенденции медийных реализаций новейшего времени, которые, хотя и побуждают человека к пониманию окружающего мира как совокупности реального и ирреального в каждый отдельный момент исторического витка, но все же до сих пор не поняты в полной мере. Современные реалии не просто ускоряют трансформацию коммуникативного пространства, перетекающего из мира видимого в мир невидимого, из реального в виртуальное, а в значительной мере возлагают важную задачу взаимодействия между ними на самого субъекта происходящих метаморфоз - коллективного субъекта поколения Z. Установлено, что коммуникативные преобразования социокультурных практик отличаются преломлением ценностей, вариативность которых порождает множественность путей вхождения в прогрессивную модель развития социума. Обсуждение и заключение. Сверхплотность сегодняшних коммуникативных потоков трансформировала привычную коммуникацию к гибридной форме, смешав языки различных видов, где зрительные образы физической реальности трудно отделить от виртуальных образов. Встроенность цифровизации во все сферы жизнедеятельности человека породила не только очередной виток информационного модуса существования мира, но и сразу же выявила противоречивость новой коммуникативной активности. В первую очередь речь идет об оппозиции традиционного и нового, которая придает оппозиции «видимое - невидимое» яркое аксиологическое звучание, стимулирует переосмысление границ между субъектом, машиной и обществом. Сделан вывод о расколе между цифровой культурой и субъектами ее воспроизводства, что может привести к разрушению общества.
Коммуникация, цифровая культура, социокультурная реальность, свой - чужой, субъект современных реалий, философская интерпретация, понимание мира
Короткий адрес: https://sciup.org/147238925
IDR: 147238925 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.15507/2078-9823.060.022.202204.402-412
Текст научной статьи Социально-философский анализ коммуникативных преобразований в ракурсе реалий XXI в.
Сегодняшний мир характеризуется усиленным вниманием к тем фундаментальным процессам, которые, хотя и не существовали чисто в латентном виде, но, безусловно, не имели прежде столь ярких проявлений. Масштабные события последних лет, происходящие в политике и экономике многих стран, миграции, резком нарастании конфликтности, создают коммуникативную среду, категориальный смысл которой фиксируется дихотомией «свой – чужой». Преобразования во всех сферах общества сопровождаются стремительным развитием асимметрии коммуникационного пространства, сочетающего в себе разнонаправленные тенденции, маркирующие реалии современности, заставляя пересматривать устоявшиеся приоритеты. Значимость коммуникации растет и устойчиво позиционируется в социальной реальности, изоморфно преобразуясь в мультимедийном поле нелинейного и непредсказуемого бытия человека. Любые глобальные трансформации вызывают количественные и качественные изменения (в том числе срывы) индивидуального и коллективного субъектов, деятельность которых институционализируется преимущественно коммуникационной составляющей.
Развитие цивилизации ведет к усложнению представлений о мире и неизбежности смены ведущих трендов. Безусловно, каждая магистраль обладает собственной спецификой, но наблюдается и общая черта, заключающаяся в изменении границ коммуникативного пространства. Новые перспективы социокультурной реальности порождают немало проблем, к которым можно отнести отсутствие единого мнения о сущности коммуникации, ее видов и типов, форм, этапов ее развития; принципах и способов взаимодействия между собой и влияния на личность и общество в целом, и т. д. Ведь, по сути, коммуникация в цифровом обществе есть феномен социокультурной эволюции во многих отношениях иного свойства, чем коммуникация в общепринятом смысле.
Насущный вызов человеческому сообществу – принципиальные отличия коммуникации последних десятилетий и характер ее воздействия на развитие человека – актуализируют заявленную проблематику и представляют ее как многогранную реализацию отношений между полюсами «свой» и «чужой». Особый смысл в развертывании нового типа активности усматривается в движении от понимания отдельного субъекта как части нового предметного мира к пониманию мира как целого.
Настоятельная необходимость осмысления коммуникативных преобразований под философским углом интерпретации сложных реалий XXI столетия, меняющих представление о мире и месте человека в нем, составляет основную цель данного исследования.
Обзор литературы
Чтобы очертить контуры современной коммуникации, следует взглянуть на ее прошлые характеристики, которые находились в поле зрения мыслителей и ученых с древних времен. Уже в древнегреческой философии коммуникативный аспект определялся в качестве фундаментального. В частности, Аристотель пишет, что «всякое государство представляет собой общение, всякое же общение организуется ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо), то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу» [2, с. 376]. Утверждение Аристотеля направлено на понимание концептуальной значимости коммуникации. Фразу «все общения стремятся к тому или иному благу» нужно понимать именно как создание определенного формата коммуникации, направленного на каждого индивида, т. е. коммуникация стабильно актуализирует благо, добродетель в рамках социальной практики субъекта коллективного опыта. Можно утверждать, что исторический генезис коммуникации тесно связан с другими рациональными и ментально-когнитивными формами мироосвоения, прежде всего с историей искусства, культуры, торговли и рекламы, демонстрируя извечное противостояние «своего» и «чужого».
Отличительным свойством сегодняшней коммуникации является ее визуализация, которая настолько прочно встроилась в бытие всех и каждого, что задает новые алгоритмы познания окружающей социальной реальности. В исследованиях, посвященных значимости визуализации для человека, объясняются его генетически обусловленная близость к визуальным событиям, т. е. к изображению [21, S. 49]. Вначале человек пытался визуализировать зрительные впечатления. Рисунки пещер свидетельствуют о том, что изобразительная практика является одним из древнейших культурных форм коммуникации человека, стремящегося передать в наскальных образах суть окружающей его реальности. Это визуальное оформление означало значительный шаг в становлении человека как личности. Хотя функции пещерных рисунков однозначно трудно сформулировать корректно, можно предположить, что эти изображения создавались в культовом и магическом контекстах. Визуальное сопровождение гарантировало человеку успех и активировало в его представлениях магические силы. Как утверждает П. Шлук-Верзиг, первые свидетельства графических представлений (контурные рисунки) относятся к верхнему палеолиту (около 30 тыс. лет до н. э.) [21, S. 55]. Центральными темами древней исторической иконографии являются воспроизводство (визуализированные мужчиной и женщиной), и охота (визуализируются лошадью и бизоном). «Из-за их необычайной плавности и тонкости затенения, трудно представить эти изображения грубыми или примитивными. Они являются базовыми, первичными и создаются несложными методами, такими, как смешивание краски во рту и ее нанесение на стену. Тем самым, неровная поверхность стен пещеры придает изображению трехмерность и также включена в произведение искусства» [17, p. 75].
Период применения рисунка в качестве устной формы представления сообщения знаменуется возникновением пиктографического письма. Иконическая форма пиктограмм, передающая предметы визуально, делала их доступными для восприятия людьми, говорящими на разных языках. Как бы ни были просты изображения, в них уже был заложен элемент условности их толкования, что достаточно сильно размывало границы между «своим» и «чужим». Следует согласиться с А. Вильден: «Лю- бая картина мира располагает собственной геометрией и психологией интерпретации действительности» [24, S. 49]. При этом отчуждение «чужого», преимущественно достраивалось до образа «врага».
С развитием мышления появилась всевозрастающая потребность выразить более сложные смыслы, что привело к возникновению зрительных символов [23]. Сохранение пиктографического письма можно наблюдать и в нынешнее время (изображение знаков дорожного движения, реклама на баннерах и пр.). Пиктография – общедоступный вид письма, идеально приспособленное средство международного общения, претендующее на адекватность понимания преобладающим большинством, невзирая на разность специфики культур и языков.
От этих первичных визуализированных представлений до сегодняшних дней сделан огромный скачок. В результате развития искусства, печати выполненные вручную уникальные наскальные рисунки были заменены визуализированными образами, массово воспроизводимыми средствами коммуникации. Иначе говоря, отдельное сообщение человека было заменено, благодаря техническим средствам, массово тиражируемой информацией, и, соответственно, вербальная коммуникация вытес-нилась визуальной доминантой. Известную поговорку «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» можно подкрепить цитатой П. М. Лестера: «Что-то происходит. Мы становимся визуально-опосредованным обществом. Многие люди воспринимают информацию не при помощи слов, а глядя на изображение» [20, p. 239]. К этой позиции присоединяются психологи (А. Меграбян), указывая, что коммуникация на 93 % является невербальной [9]. Такой вывод тяготеет к эволюционной точке зрения, согласно которой невербальное общение возникло раньше вербального, представляет собой примитивную коммуникацию, которой наделены и человек, и животные.
Рассматривая социальную реальность как реализацию коммуникативных отношений «индивидуальное-коллективное», всю историю визуальной коммуникации в условиях интенсивной цифровизации можно интерпретировать как историю постепенного сдвига границ между видимым и невидимым, запутывающим мировосприятие, трансформирующим его. По меткому замечанию К. Шваба, технический прогресс меняет «не только то, что и как мы делаем, но и то, кем мы являемся» [16, с. 19].
Публикации последних лет, посвященные коммуникативным исследованиям, можно достаточно четко распределить на две альтернативные группы. Одни выделяют теоретический уровень коммуникативных преобразований [1; 12; 15; 18], а другие рассматривают их в прикладном ключе [4; 5; 22]. Также появилось много критических работ, связанных с коммуникативными аспектами, мотивированными экстраординарными причинами, в которых оказался социум в 2020 г. [7; 19]. Перечень тем, связанных с проблематикой коммуникаций и ее существования в технологическом укладе, бесконечен. В связи с этим представляется, что фокус научных изысканий в сфере коммуникативных преобразований должен быть перенесен к попытке понять, как концептуализируется исходная гипотеза исследования, касающаяся когерентности и детерминированности «своего» и «чужого».
Методы
Сверхплотность визуальных коммуникативных потоков в пространстве современности, смешавшая визуальные языки различных видов, где зрительные образы физической реальности трудно отделить от виртуальных образов, представляет огромную методологическую трудность. Привычных методов описания и анализа оказывается недостаточно для рефлексии современного визуального континуума. Результатом становится возникновение новых проблем, сущность которых можно выразить оппозицией «видимое – невидимое». Воспринимать и понимать невидимое предполагает склонность к логическому обоснованию нового мироощущения, однако все в тех же полюсах между «своим» и «чужим». Нарастание точек бифуркаций в формирующейся информационной парадигме как коммуникативной реальности актуализировало классический философский метод дуальных оппозиций.
Представления о «чужом» базируются на переплетении осознанного рационального знания и бессознательного, артикулируемого в общекультурных практиках. Основной методологический вопрос в контексте заявленной проблематики хотелось бы обозначить словами К. Поппера: «Какие уроки на будущее можно извлечь из прошлого?» [11, с. 486]. Анализ итогов исторического опыта показывает, что в обществе устойчиво прослеживается запрос на перемены, «преобразования в экономике, социальной и политической сфере, утверждение социальной справедливости». Утверждая это, А. В. Костина подчеркивает, что ориентация на будущее однозначно связана с четким представлением о доминантной идее и цели развития, способах ее достижения [6, с. 52].
Исследование реалий современности потребовало обращения к социокультурному подходу, реализация которого в сочетании с диалектическим методом способствует объективному обоснованию ключевых смыслов коммуникативных преобразований. Расширение спектра проблем, возникающих на фоне меняющихся аксиологических ориентаций, делает очевидной утрату универсальных ценностей, что приводит к неожиданным поведенческим моделям индивидуумов. Погружение в условия гибридного существования, в действительную и цифровую реальность влечет за собой неопределенность идентификации личности, формирует маргинальные качества, состояние социальной аномии. Для полноты бытия субъект должен являться частью социокультурной системы, его действия должны соответствовать социокультурным практикам, иначе общество перестанет обладать стабильностью. Согласно А. С. Ахиезе-ру, человек с точки зрения социокультурного подхода есть «общественный субъект и носитель определенной культуры и социальных отношений» [3, с. 58]. Поэтому осмысление механизмов гибридной культуры и ее потенциала в отношениях «индивидуальное – коллективное» выступает базисным методологическим ориентиром, чтобы найти новые смыслы, отражающие восприятие реалий современности.
Важным положением методологический базы исследования являются теории «множественного модерна» (Ш. Эйзенштадт, В. Г. Федотова), обладающие разнообразием способов выражения сегодняшней цивилизации. Согласно Ш. Эйзенштадту, источником современной эпохи «является множество индивидуальных целей и интересов, ведущих к признанию множественных интерпретаций» [18, p. 24]. В. Г. Федотова подчеркивает, что «концепция Ш. Эйзенштадта привела к пониманию того, что имеются различные социокультурные контексты, которые влияют на характер модернизации каждого общества и вплетают достигнутый результат в совокупный итог цивилизации модерна, возникшей первоначально в Западной Европе» [15, с. 230]. Социокультурные характеристики разных обществ широко варьируются. При этом та или иная модель общества является своеобразным способом рефлексии на вызовы времени. В. С. Мартьянов подчеркивает, что «успешное развитие Модерна возможно и вопреки культурно-политической гегемонии Европы (европейской цивилизации), будь то примеры Японии, Китая, Индии, «азиатских тигров», ОАЭ и т. д.» [8, с. 51]. Говоря о множественности современности, следует учитывать характерные черты «культурных программ» (в терминологии Ш. Эйзенштадта). К их числу относится обязательное наличие «чужого», который противопоставляется «своему» во всех смыслах.
Результаты
Понимание того, что коммуникация играет все более главенствующую роль в электронной цивилизации, появилось еще в начале 1970-х гг., когда акцентировалось внимание на перспективе повышения эффективности научной деятельности. Встро-енность цифровизации во все сферы жизнедеятельности человека не только породила очередной виток интеграционного модуса существования мира, но и сразу же выявила противоречивость новой коммуникативной активности. Несмотря на то что массовое распространение цифровых технологий осуществляет сам человек, осмысление их сущности происходит по принципу догоняющего понимания. Коллективный субъект обладает определенными координатами настоящего, которые задают параметры будущего. Реальная действительность и ее бесчисленные виртуальные отражения причудливо переплетаются в непрерывно дополняемой реальности, создавая иллюзию масштабного пространства новой, совершенно другой жизни. В подобном искаженном коммуникативном поле формируются точки сбоя, которые влияют на мышление и поведение человека. Человек совершает ошибку за ошибкой, оказываясь в плену собственных заблуждений, забывая, что его бытие есть не просто бытие «своих» среди «Других», но и бытие среди «Чужих», несущее в себе значительную коммуникационную нагрузку, закладывающую сегодня противоречие между ее внутренними и внешними проявлениями в ближайшем будущем. Диалектика этого противоречия определяется уже созревшими тенденциями медийных реализаций но- вого типа, оставляя за кадром формирующиеся. Анализ этого вопроса, включая точки сбоя, практически сводится к известной схеме «новое – старое».
Во-первых, следует констатировать максимальную ощутимость развертывающейся динамической целостности коммуникативных процессов, цель которых – выполнение определенной функции в изменившихся условиях. Однако в массовом сознании еще не наступил качественный перелом в отношении к инструментализму электронной коммуникации. Утилитарный мир вещей, имманентный привычной реальности, пытается найти прибежище в жизни новых реалий, однако неизбежно выходит за пределы предметного мира. Факт увеличения информации и интенсификации коммуникации и, что немаловажно, доступности коммуникации каждому субъекту, очевиден, а вот ее качество, смысловое содержание начинает работать иначе. Зададимся вопросом: если вполне бесспорно увеличение информационных объемов и скорость доставки информационных материалов невиданно велика, зависимость от расстояния и территориального расположения нивелирована, то как сказалось это на общем уровне образованности? Особых прорывов не ощущается. Учитывая, что сетевые технологии предлагают избыточную информацию любого содержания, которая соответствует вкусам и предпочтениям субъекта, степень доверия к ее достоверности снижается. К большинству вопросов можно найти противоречивые ответы на любой вкус. Сказанное ведет не только к обесцениванию смысловой составляющей коммуникации, но и к снижению качества работы с информацией. Не так давно для поиска необходимых сведений индивид физически перемещался в библиотеки, каталоги и т. д., выполняя определенную деятельность, отбирая и выискивая нужные сведения. Сейчас любую информацию можно получить, не прикладывая усилий, что ведет к утрате навыков работы с информацией. Примеров коммуникационных парадоксов можно приводить множество, однако обобщенно суть их можно свести к выводу, что субъект, осуществляя деятельность в коммуникативном пространстве, переносит привычные навыки общения из классической физической реальности на виртуальную, не задумываясь, что полученные данные могут быть ложными, недостоверными и ориентированы на предпочтения коммуниканта. Сетевая коммуникация, построенная на искусственном интеллекте, схватывает интересы субъекта и под них подбирает и даже интерпретирует информацию. В литературе уже отмечалось, что «возрастающая роль визуальной коммуникации в восприятии мира на всех уровнях ведет к новому типу личности» [13, с. 10].
Во-вторых, отталкиваясь от тривиального понимания электронной коммуникации как некого информационного средства, ускоряющего передачу содержания, коллективный субъект непрерывно подвергает пересмотру то, что подразумевается под коммуникацией. Этот вывод подкрепляется утилитарным рассмотрением коммуникации как пространства для переплетения и конструирования сущностей, трансформирующих большую часть жизненного опыта человека, в частности практикуемого в период COVID-19 в форме изоляции, заставляя пересмотреть свои экзистенциальные стратегии и ценностные иерархии. Существовавшие ранее и воспринимавшиеся как основополагающие качества коммуникации перестают работать, предъявляя требования к пониманию новых условий бытия. С погружением в виртуальное общение с субъектами сформированной искусственным интеллектом медиасреды, редуцирующими «живую» коммуникацию с реальными «чужими» к нулю, происходит перестраивание «своего» на основе новых практик. Пере- живание бытия, проживание в коммуникативной активности, отвечающей на вызовы времени, ведет к изменению субъекта. Тем самым взаимодействие замкнутого в своей национальной культуре субъекта с миром оказывается двунаправленным процессом.
В-третьих, пересмотр ценностей обострил новое мироощущение, когда в деятельности коллективного субъекта спонтанно обнаруживаются незапланированные (неподконтрольные) результаты. Современные реалии играют существенную роль в ускоренной трансформации коммуникативного пространства, перетекающего из мира видимого в мир невидимого, из реального в виртуальное, возлагая важную задачу взаимодействия между ними на субъекта происходящих метаморфоз – коллективного субъекта поколения Z.
Обсуждение и заключение
В цифровой реальности субъекты оппозиции «свой – чужой» столь разномерны, что порождают множество ментальных идентичностей. В литературе отмечается, что «две или несколько различных картин мира, систем ценностей становятся представлены синхронно» [14, с. 92]. Многополярный дигитилизированный социум – это реальность особого типа, которая одновременно находится и вокруг субъекта, и внутри него, и между субъектами. В рамках социальных взаимодействий человек подвергается дополнительной нагрузке, затрагивающей ментальные, психологические, социокультурные и другие аспекты.
Шаг за шагом определялись новые пределы «приемлемой визуализации», обнаруживая все большую связь этого понятия с актуальными коммуникативными практиками. Тотальная визуализация привела к развитию визуальной культуры, в основу которой заложены отношения человека с невидимым. Сегодня индивид пользуется возможностями и преимуществами проникновения визуального во все те области, которые еще вчера составляли территорию невидимого. Например, в диснеевской классике «Красавица и Чудовище» один из героев, Гастон, высмеивает привычки Белль к чтению. Он спрашивает, как она может прочитать то, к чему нет фотографий. В ответ следует, что некоторые люди используют воображение. Приведенный пример иллюстрирует, что для многих понимание мира достигается не вербальной коммуникацией, а путем чтения изображений. Тем самым визуальная культура заменяет слова, что следует рассматривать в качестве важного фактора современности.
Ключевой чертой сегодняшнего мира становится дуальность традиционного и нового, которая придает оппозиции «видимое – невидимое» яркое аксиологическое звучание, наполняя противопоставление «свой – чужой» новыми смыслами. Преимущество видимого связано с тем, что бытие по существу является визуальным. Однако еще М. Мерло-Понти обращал внимание [10, с. 123], что приоритет видимого по отношению к другим модусам восприятия остается непроясненным и сомнительным. Имея в виду эту сложность, выделим лишь то, что обе стороны оппозиции тесно связаны между собой как единое целое потому, что в их основе лежат принципы повтора и возвратного движения, что скрепляет и объединяет их между собой. Например, если один субъект обращается к другому вербально, то общение происходит в системе «свой – чужой», в которой этот другой субъект, как правило, сопровождает ответное послание и по визуальному каналу либо с помощью мимики, жестов, смайликов и т. д. При этом обратная связь может быть одновременной, создавая качественно иной тип коммуникации. Тем самым можно сде- лать вывод, что видимое и невидимое – это условность, что между ними зыбкая амбивалентная грань, которая при определенных условиях переводит одну сторону в другую и наоборот. Несомненно, существование полюсов видимого и невидимого взаимодополняет друг друга. Схватывая визуальную коммуникацию, они коррелируют друг с другом и переопределяют свою субстанциальность, а потому включены в состав современности в равной мере. Следовательно, противопоставление «видимое – невидимое» в динамике опыта коллективного субъекта производно от оппозиции «свой – чужой» и отражает изменения, происходящие в обществе. Создание образов будущего, в котором происходят коммуникативные преобразования, превратилось в реальность сегодняшнего дня.
Сказанное позволяет сделать следующие выводы. Жизнь человека наполнена отношениями с миром, включающими большой спектр направлений, от общекультурных закономерностей естественного до аксиологических оснований искусственного. Понимание окружающего мира как совокупности реального и ирреального в каждый момент времени побуждает человека осмыслять его как бы заново, раскрывая то общее и особенное, смысловая нагрузка которого представляется чрезвычайно важной в осуществлении взаимопонимания между «своим» и «чужим». Очевидно, что преобразования, привнесенные цифровой коммуникацией, оказывают неоднозначное влияние на бытие человека, погружая его в состояние нестабильности, нарушая тем самым традиционную картину мира, перестраивая ее. Множественность выбора дезорганизует самореализацию субъекта, делая его уязвимым.
Список литературы Социально-философский анализ коммуникативных преобразований в ракурсе реалий XXI в.
- Аллард Э. Сомнительные достоинства концепции модернизации // Социологические исследования. 2002. № 9. С. 60-66.
- Аристотель. Политика // Аристотель. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 376-644.
- Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. Т. 1. 804 с.
- Исхаков А. Ф., Китова Е. Т. Влияние научно-технического прогресса на общество // Непрерывное профессиональное образование: теория и практика. Новосибирск, 2020. С. 137-141.
- Конева А. В., Лисенкова А. А. Матрица идентичности в цифровую эпоху: социальные вызовы преодоления анонимности // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 35. С. 14-28.
- Костина А. В. Идея прогресса и образ будущего: трансформации в условиях пандемии // Знание. Понимание. Умение. 2021. № 3. С. 45-57.
- Марков Б. В. Человек и общество в цифровую эпоху // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, вып. 2. С. 143-148. DOI: 10.18500/1819-7671-2020-20-2-143-148.
- Мартьянов В. С. Один модерн или «множество»? // Полис. Политические исследования. 2010. № 6. С. 41-53.
- Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. СПб.: Речь, 2001. 256 с.
- Мерло-понти М. Видимое и невидимое / пер. с фр. О. Н. Шпарага. Минск: Логвинов, 2006. 400 с.
- Иоппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. М.: Феникс; Междунар. фонд «Культурная инициатива», 1992. 528 с.
- пржиленская И. Б. Информационное общество и социальная модернизация // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2006. № 4. С. 22-29.
- РябоваМ. Э. Визуальная коммуникация в социокультурной реальности интернета // Современная коммуникативистика. 2019. Т. 8, № 6. С. 9-13.
- Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 147 с.
- Федотова В. Г. Роль модернизации в цивилизационном проекте для России // Вопросы социальной теории. 2020. Т. 12. С. 222-236.
- Шваб К. Четвертая промышленная революция / пер. с англ.; под ред. А. Меркурьевой. М.: Эксмо, 2016. 208 с.
- Barry A. M. Visual Intelligence. Perception, Image, and Manipulation in Visual Communication. Albany/NY: State University of New York Press, 1997. 440 p.
- EisenstadS. N. Multiple Modernities // Daedalus: Winter. 2000. Vol. 129, No. 1. P. 1-29.
- Kaur N., BhatM. S. The Face of Education and the Faceless Teacher Post COVID-19 // Journal of Humanities and Social Sciences Research. 2020. No. 2. P. 39-48. DOI: 10.37534/bp.jhssr.2020. v2.nS.id1030.p39.
- Lester P. M. Visual Communication Images with Messages. 4th Ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 2006. 450 p.
- Schuck-Wersig P. Expeditionen zum Bild. Beiträge zur Analyse des kulturellen Stellenwerts von Bildern. Frankfurt/Main [u. a]: Peter Lang, 1993. 247 S.
- Tomasello M. The Role of Roles in Uniquely Human Cognition and Sociality // Journal for the Theory of Social Behavior. 2020. Vol. 50. P. 2-19.
- Werner H., Kaplan B. Symbol formation: An organismic development approach to language and the expression of thought. New York: Wiley, 1963. 530 p.
- Wilden A. Die Konstruktion von Fremdheit. Eine interaktionistisch-konstruktivistische Perspektive. Münster: Waxmann Publisching, 2013. 300 S.