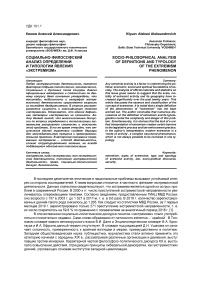Социально-философский анализ определений и типологии явления «экстремизм»
Автор: Клюев Алексей Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Любая экстремистская деятельность является фактором подрыва политических, экономических, социальных и духовных основ социума. Анализ официальных материалов и статистики по данному вопросу дает основание утверждать, что масштабы, мобильность и география экстремистской деятельности существенно возросли за последнее двадцатилетие. В статье рассматриваются сущность и классификация понятия «экстремизм». Отмечается, что единой дефиниции категории «экстремизм» не сложилось. Автор делает вывод, что многочисленные дискуссии по вопросу определения и типологизации экстремизма раскрывают сложность и опасность этой проблемы. В то же время очевидно, что отсутствие единой трактовки создает барьеры для законодательного процесса и правоприменительной практики. В авторском понимании современный экстремизм - «способ деятельности», сложно структурированное явление, не всегда поддающееся однозначной типологизации.
Экстремизм, виды экстремизма, тип экстремистской деятельности, типология экстремистской деятельности, право, социально-политический дискурс, безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/149134775
IDR: 149134775 | УДК: 101.1 | DOI: 10.24158/fik.2020.4.5
Текст научной статьи Социально-философский анализ определений и типологии явления «экстремизм»
В последние десятилетия этнические и национальные проблемы вызывают устойчивый интерес со стороны исследователей. К таким вопросам относится, в частности, феномен экстремистской деятельности. Данные статистики свидетельствуют, что экстремизм является одной из острых проблем в современной России. В 2000-х гг. число преступлений экстремистской направленности увеличивалось опережающими темпами. Согласно сведениям, предоставленным ГИАЦ МВД России, оно возросло с 157 в 2003 г. до 1 521 в 2017-м, т. е. в 9,6 раза. В 2018 г. количество зарегистрированных деяний такого рода снизилось до 1 265. Как следует из статистики МВД России, за 7 первых месяцев 2019 г. зарегистрировано только 371 преступление экстремистской направленности, т. е. их число сократилось на 59,8 % по сравнению с показателями за аналогичный период 2018 г. [1].
В отечественном социально-политическом дискурсе понятие «экстремизм» стало употребляться относительно недавно. Само слово образовано от латинского extremus – ˈкрайнийˈ. В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля и Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона данный термин отсутствует. В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова он означает склонность, приверженность к крайним взглядам и мерам, преимущественно в политике. Западная обществоведческая наука, публицистика, журналистика стали активно применять эту категорию начиная с середины XIX в., рассматривая различные организации и движения, выступавшие против монархии. Характерной чертой философско-политического дискурса XX в. выступало осмысление действий, отрицающих принципы либеральной демократии, как экстремистских деяний, угрожающих основам институтов западной цивилизации.
Особое внимание на изучение сущности и типологии экстремизма обратил известный американский социолог С.М. Липсет. В произведении «Политический человек: социальные основания политики» (1960) исследователь обращает внимание на такие детерминанты возникновения экстремизма в обществах, как культура, религия, экономика, электоральная система, а также на антилиберальную направленность субъектов экстремизма. В связи с этим в ряду экстремистских деяний в классификации С.М. Липсета выделяются различные по природе и целям направления: коммунизм, фашизм, национал-социализм, национализм и т. д. [2]. Таким образом, все то, что выходило за границы господствующей политической системы в разные периоды истории, так или иначе приобретало экстремистские очертания.
Реальные проявления экстремизма – предмет изучения представителей различных социо-гуманитарных дисциплин. Особой проблемой в настоящее время служит несформированность универсального определения термина «экстремизм». Это обусловлено эволюцией обществ, разнообразием проявления экстремизма, увеличением масштабов его проникновения во все сферы жизни социума, а также мировоззренческими установками ученых.
Безусловно, большинство исследований по экстремистской тематике реализовано юристами и политологами. В наиболее значимых философских работах категория «экстремизм» практически не встречается. Данный вопрос в философском наследии затрагивается преимущественно при анализе смежных понятий, таких как «мировоззрение», «насилие», «идеология», а также в контексте общей проблематики государства и власти.
В социально-политическом значении этот термин впервые применил Ш. Монтескье. Французский просветитель использовал латинское слово extremus – ˈкрайнийˈ – для описания крайностей двух форм правления – деспотии и прямой демократии.
В произведении А. Камю «Бунтующий человек» рассматривается исторически сложившаяся склонность человека к бунту и противостоянию. Опираясь на идеи М. Шеллера, автор приходит к выводу, что в социумах с большой степенью неравенства или с абсолютным равенством мятежный дух редко проявляется. По А. Камю, «в обществе бунтарский дух может возникнуть только в тех социальных группах, где теоретическое равенство скрывает огромные фактические неравенства» [3, с. 132]. Поэтому мыслитель делает предположение, что проблема осмысления бунта является актуальной скорее для западноевропейской традиции. Согласно его концепции, в подсознании индивида могут развиваться три вида сопротивления: метафизический бунт, исторический бунт и бунт в искусстве. Первый выражается в попытке разрешить антиномию справедливости и несправедливости. Конечная цель бунтующего человека заключена в построении царства справедливости или несправедливости, если этого возможно добиться. К историческому бунту А. Камю относит все детерминанты волнений, когда требовалось установить свободу и справедливость. Бунт в искусстве выступает как проявление творческой свободы человека, не выходящее за пределы разрешенных рамок. Давно замечено, что свободная творческая личность может отрицать действительность, но столь же очевидно, что творящий преобразует реальность в удобную для себя форму. В целом бунт для философа – это напрасная трата времени ввиду необходимости расходования огромного количества энергии и неминуемой конечности человеческого бытия.
В знаменитой работе «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтон подробно исследует эффект линий разлома между цивилизациями и обнаруживает разные примеры экстремизма в модернизирующихся странах. Интересно, что термин «экстремизм» употребляется почти как синоним понятия «радикализм». Произведение «Кто мы», опубликованное после событий 11 сентября 2001 г., в целом посвящено проблеме американской национальной идентичности. В контексте этого вопроса С. Хантингтон сравнивает конфликт между воинствующим исламом и США с событиями холодной войны. Новой тенденцией развития общества США, по С. Хантингтону, стало то, «что исламская враждебность заставляет американцев идентифицировать себя с религиозной и культурной точек зрения», а не с социально-политических позиций, как это было в эпоху холодной войны [4, с. 559].
Ж. Бодрийяр выдвигает тезис о трансформации общества модерна в особую гиперреальность, пространство симулякров, где социальное уступает место симуляции. В книге «Система вещей» симулякр понимается как ложное подобие, условный знак чего-либо, функционирующий в обществе как его заместитель. Пространство симулякров Ж. Бодрийяр рассматривает как «взаимные подстановки красивого и безобразного в моде, левых и правых в политике, правды и лжи во всех сообщениях массмедиа, полезного и бесполезного в бытовых вещах, природы и культуры на всех уровнях знания» [5, с. 55]. Следуя логике мыслителя, все экстремальные процессы и экстремистские проявления служат неотъемлемой частью этой гиперреальности. С точки зрения постмодернистской парадигмы социального познания экстремизм – также симулякр, функционирующий благодаря современной системе коммуникаций.
В философском творчестве А.С. Панарина проявления экстремизма рассматриваются скорее как выход за пределы определенной меры. Еще в античной философии соблюдение меры считалось высшей эстетической категорией, необходимым условием порядка и гармонии. В работах философа акцентируется внимание на политическом, культурном и глобальном экстремизме. Размышляя, в частности, над ложностью дилемм «демократия или тоталитаризм», «рынок или административно-командная система», мыслитель подчеркивает, что в данном случае «речь идет о том, понимаем ли мы либеральную демократию как возвращение в состояние естественного отбора, в котором государство и общество пассивно наблюдают, как сильные вытесняют слабых, или мы понимаем демократию в социальном (а не природном) смысле – как цивилизованные правила игры, создающие более или менее равные возможности для всех, и при этом страхующие общество от экстремизма правых и левых» [6].
Рассматривая экстремизм как социальное явление, большинство российских ученых отмечают прежде всего его деятельностную сторону. По мнению А.А. Хоровинникова, самом общем виде экстремизмом правомерно называть «действия, направленные на достижение крайних, предельных состояний человеческого сознания, что выражается в системе деструктивной активности и провоцирует конфликт» [7, с. 10]. В его концепции термин «экстремизм» справедливо соотносится с проблемой экстремальности. Системное изложение последней можно впервые проследить в философии Н. Кузанского. Для него процесс познания – достижение бесконечного совершенства, где познаваемый объект находится между максимумом и минимумом.
Если экстремизму свойственны личностное начало, субъективность, психологическая составляющая, то экстремальность складывается естественным образом, стихийно. Экстремальность при определенных социальных условиях способна переходить на новый качественный уровень. Этот уровень может иметь позитивные очертания и характеризоваться различными способами самовыражения личности – активизацией творческих усилий, волонтерской деятельностью, альтруистическими поступками и т. д. Экстремальность может трансформироваться также в экстремистскую деятельность, понимаемую как приверженность крайним взглядам, преимущественно насильственным средствам достижения целей.
Современное человечество живет в эпоху стремительных изменений. Такие процессы, как глобализация, социально-политические потрясения, кризис идеологий, развитие массовой культуры, привели к болезненному сдвигу в системе ценностей разных этносов. В связи с этим актуализировалось проблема исследования взаимосвязи новых форм отчуждения и экстремизма. А.В. Томалинцев видит экстремизм «как особую форму отчуждения и прежде всего отчуждения от общечеловеческих, общекультурных ценностей» [8, с. 4].
Социально-философский анализ проблемы экстремизма интересен тем, что выражает крайности дихотомии «свой – чужой». Данная оппозиция возникла на заре человеческой истории и считается архетипической. «Свое» (самобытие) изначально объявляется как нечто первостепенное по отношению к «чужому» (инобытию). «Чужой» – это обычно представитель другого этноса, культуры, традиций, социальной общности, класса. Чужой – это не мое второе «я» (альтер эго), а чужое «я» («я», не являющееся мной). Глубокие причины экстремизма коренятся, по сути, во враждебном отношении к «чужому», неприятии иных культурных смыслов.
Исследователи, работающие в рамках социологического подхода, на основе научного наследия Э. Дюркгейма предлагают изучать экстремистские движения в контексте проблемы девиантного поведения. Как известно, девиация в переводе с латыни означает ˈотклонение от до-рогиˈ, а девиантным считается такое поведение личности, которое отклоняется от общепринятых, устоявшихся норм. Так, социолог И.В. Вехов подчеркивает, что «экстремизмом является девиантное поведение, осознанное и идеологически обоснованное, выражающееся в действиях, направленных на полное или частичное отрицание сложившегося общественного устройства (в частности, против таких его сторон, как основные права человека или порядок осуществления властных отношений); а также в призывах к осуществлению таких действий» [9, с. 288].
Данные точки зрения не исчерпывают всех особенностей экстремизма, отражают лишь «верхушку айсберга» – маленькую часть большой проблемы. Экстремизм стал способом деятельности, жизни, самовыражения для определенной группы населения и целых организаций. Он превратился в практику реализации политических, религиозных и национальных проектов, стал инструментом и средством для изменения статус-кво. Последние события на Ближнем Востоке и Украине подтверждают, что экстремизм переходит на качественно новый уровень. Это явление приняло специфический вид производства определенной социально-экономический и духовной реальности, где четко выделяются источники дохода, генерирующие центры, иерархическая система и т. д.
Для современного экстремизма характерен процесс перехода от уровня стихийного объединения к сознательной, близкой к системе интеграции. Данный феномен можно определить как постоянно действующую практику, которая ориентирована на привлечение новых сторонников и поиск финансовых средств. Можно утверждать, что современный экстремизм – это институт найма людей, работающий по сетевому принципу. Согласно А.В. Федорченко, «Исламское государство», группировка, запрещенная в России, – «это очень подвижная структура, способная к регенерации. У этой структуры горизонтально-сетевая конструкция, которая не совпадает со схемами сетевых действий современных армий» [10, с. 223]. Вполне отчетливо прослеживается тенденция возвращения к традиционным конструктивным формам, создающим предпосылки к становлению экстремизма как способа решения конкретных социальных задач, отягощенных наследственной архаикой, тем не менее обеспечивающим экстремистским организациям возможности преследовать свои цели.
Сложность такого социального явления, как экстремизм, детерминирует научные дискуссии по вопросу его типологизации. Типологизация проблемы экстремизма проводится в научной литературе и политической практике по различным критериям, которые позволяют видеть многоплановый характер этого феномена. Существуют несколько вариантов типологизации экстремизма.
Американские ученые Л. Уилкокс и Дж. Джорж различают левый и правый экстремизм. Левые экстремисты объявляют себя борцами за социальную справедливость и защитниками трудящихся масс. Правый экстремизм основан на отстаивании национальных, культурных, религиозных идей [11].
Структурный анализ религиозного экстремизма проводит А.И. Муминов. По критерию сплоченности исследователь выделяет объединительный и обособливающий (сектантский) религиозный экстремизм. По направленности возможно рассмотрение антигосударственного, антиобщественного, антиличностного и античеловеческого экстремизма. По характеру управления философ различает мессианский, учительский, ведический, «божественный» типы религиозного экстремизма [12, с. 12–13].
Экстремизм разделяют по сферам человеческой жизнедеятельности: бытовой, экономический, экологический, культурный, информационный и т. д. В некоторых случаях он носит стихийный характер и проявляется скорее фрагментарно в форме действий, основанных на аффективной, эмоциональной, чувственной составляющей. Наиболее опасной представляется организованная, сознательная, институализированная разновидность экстремизма.
Последние международные события, официальная статистика актуализируют проблему поиска эффективных моделей, направленных на противодействие экстремизму и гармонизацию межнациональных отношений в России. Существенная роль в решении важнейших государственных вопросов всегда отводилась интеллигенции. Отечественная интеллигенция исторически выступала в качестве посредника между политической элитой и широкими слоями населения. Умонастроения следующих поколений формируются благодаря духовным поискам и новым идеям высокообразованных граждан. Наиболее действенным методом предупреждения экстремизма считается педагогическая и образовательная деятельность. Эффективной профилактической мерой является также приобщение к талантливым художественным и документальным произведениям, разоблачающим сущность самой природы экстремизма и терроризма.
Итак, современные экстремисты проявляют себя в разных сферах жизни социума. Сложность и многообразие экстремистских деяний затрудняют выработку универсального определения экстремизма и детерминируют научные попытки его классифицировать. Для того чтобы противостоять экстремизму и проводить грань между экстремисткой деятельностью и проявлениями общественно-политической активности, силовым структурам и должностным лицам необходимо иметь точные представления о сущности, формах и видах этого опасного социально-политического феномена. Праксиологический и эвристический потенциал социально-философского подхода, на наш взгляд, дает возможность более глубокой оценки и проработки этой сложной проблемы.
Ссылки:
-
1. Состояние преступности [Электронный ресурс] // МВД России : официальный сайт. URL: https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 15.03.2020).
-
2. Липсет М. Политический человек: социальные основания политики. М., 2016. 611 с.
-
3. Камю А. Бунтующий человек : пер. с фр. М., 1990. 415 с.
-
4. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / пер. с англ. А. Башкирова. М., 2004. 637 с.
-
5. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / пер. с фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М., 2000. 389 с.
-
6. Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2002. 415 с.
-
7. Хоровинников А.А. Экстремизм как социальное явление: философский анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук. Саратов, 2007. 27 с.
-
8. Томалинцев В.Н. Человек в XXI в. Поиск на грани творчества и экстремизма. СПб., 2001. 69 с.
-
9. Вехов И.В. Экстремизм как объект социологического исследования // Известия Российского государственного педа
гогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 111. С. 284–290.
-
10. Федорченко А.В. Исламское государство: истоки, современное состояние, перспективы // Вестник МГИМО Университета. 2015. № 1 (40). С. 221–225.
-
11. Wilcox L., George J. Nazis, Communists, Klansmen, and Others on the Fringe: Political Extremism in America. N.Y., 1992. 523 p.
-
12. Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза современному обществу: социально-философский анализ : дис. … канд. филос. наук. М., 2007. 195 с.
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна
Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Социально-философский анализ определений и типологии явления «экстремизм»
- Состояние преступности [Электронный ресурс] // МВД России: официальный сайт. URL: https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 15.03.2020)
- Липсет М. Политический человек: социальные основания политики. М., 2016. 611 с
- Камю А. Бунтующий человек: пер. с фр. М., 1990. 415 с
- Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / пер. с англ. А. Башкирова. М., 2004. 637 с
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / пер. с фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М., 2000. 389 с