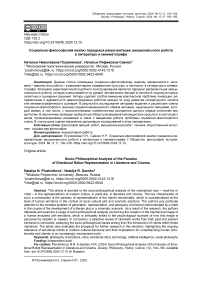Социально-философский анализ парадокса репрезентации эмоционального робота в литературе и кинематографе
Автор: Плужникова Наталья Николаевна, Саенко Наталья Ряфиковна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена социально-философскому анализу механического человека - машины или робота - в репрезентациях современной культуры, в частности, в литературе и кинематографе. Ключевой характеристикой подобного конструирования является парадокс репрезентаций эмоциональности робота, которая осмысливается на уровне человеческих эмоций в контексте социокультурных сюжетных и сценарных решений. Авторы уделяют особое внимание комплексной проблеме генерации, репрезентации и адекватности демонстрируемых роботом эмоций по ходу развития литературного сюжета или кинематографического сценария. В результате исследования авторами выделен и рассмотрен спектр социально-философского анализа создания механического образа человека, наделенного эмоциями, который связан, в том числе, с психологическими особенностями восприятия данного образа читателем или зрителем. В заключение проведен выборочный обзор произведений киноиндустрии прошлого и настоящего веков, проанализированы решаемые в связи с введением робота проблемы социально-философского плана. В статье дана оценка перспектив дальнейших исследований в этом направлении.
Философия эмоций, робот, эмоциональный робот, техника, искусственный интеллект, социальная философия
Короткий адрес: https://sciup.org/149147070
IDR: 149147070 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.10
Текст научной статьи Социально-философский анализ парадокса репрезентации эмоционального робота в литературе и кинематографе
Впервые слово «робот» было употреблено Карелом Чапеком в его пьесе «R.U.R.» («Rossumovi univerzální roboti», в переводе с чешского – «Россумские универсальные роботы» (Bechtel, 2008)) в далеком 1920 году. С того времени прошло целое столетие, а теория и практика роботизации до сих пор решают проблему атрибуции созданным техническим изделиям эмоциональных проявлений, выражаемых по степени достоверности на уровне самого человека. В самом общем виде эта проблема расщепляется на взаимосвязанную триаду: генерация эмоций (какие, когда и в связи с чем), репрезентация эмоций, и перцепция (восприятие) эмоций реципиентом. Складывается впечатление, что в реальности до окончательного решения такой триадической проблемы еще далеко. Однако сфера творческой деятельности человеческого разума, даже не имея полностью функционального в этом отношении прототипа в реальности, уже создает желаемые образы на страницах литературного текста и на киноэкране, что, вне всякого сомнения, указывает на действительную актуальность самой этой темы.
Цель настоящего исследования связана с его актуальностью и определяется как анализ особенностей творческого поиска путей создания литературных и кинематографических персонажей механического человека – машины или робота, наделенного человеческими эмоциями, а также связанных с этим особенностей сюжетных и сценарных решений.
Объектом исследования выступили современные литературные и кинематографические сюжеты. Предметом исследования ‒ новый вид роботов с эмоциональным интеллектом. Его главная особенность заключается в том, что он способен проявлять эмоции и настроение через движения, изменение выражения лица на экране и издавать различные звуки1. Разработка данного вида роботов ведется в новом направлении робототехники – эмоциональной робототехнике, которая в настоящее время представлена рядом исследований таких авторов, как Д. Гоулман (2013: 20‒30), А.А. Кузнецов (2022: 372‒375), А.В. Шиллер (2020: 93‒107), А.А. Карташева (2020: 15‒24). Исследованию социально-философских оснований современной робототехники посвящены исследования А.И. Ракитова (2019: 35‒48), М.И. Маминой и Е.В. Пирайнен (2023: 35‒51), И.П. Кавиновой (2021).
При проведении социально-философского анализа эмоционального робота авторы опирались на методы анализа литературного текста, контекстного и психологического анализа, анализа визуальных образов, а также кросс-факторного анализа ряда текстовых и кинематографических источников по параметрам, изучение содержания которых способствовало достижению заявленной цели исследования.
Роботы становятся регулярно возникающими из недр сюжета персонажами художественных произведений, преимущественно фантастического жанра. Так, при внимательном прочтении «Илиады» Гомера, написанной в VIII веке до н. э., можно обнаружить, что бог Гефест создает человекоподобные механизмы для услужения другим богам2. В папирусах эпохи правления фараона Птолемея Второго (III век до н. э.) есть упоминания о механических людях. Во второй половине XVIII века швейцарец Пьер-Жак Дроу создал в своей мастерской механическую куклу. Сидя за столом, она макала настоящее перо в чернильницу и писала настоящие слова на настоящей бумаге, но при этом оставалась механизмом. Естественно, информация о таком «механическом человеке» немедленно попала во все газеты и начала стремительно обрастать слухами. В романе Теда Чана «72 буквы» изложена история создания из неодушевленной материи голема – персонажа многих преданий еврейского народа – посредством специального воздействия (заклинания) на эту материю 72-мя буквами еврейского алфавита в тайном, особом порядке. В романе В. Пелевина «Чапаев и пустота» адъютант легендарного комдива Батый оказывается големом. В классическом романе У. Эко «Маятник Фуко» также можно найти подобный персонаж. И далее, в наше время, ‒ самых разнообразных «механических людей». Естественно, роботам приходится общаться с человеком, в то время как сам человек предпочитает, чтобы с ним общались именно эмоционально, остальное же («детали») становится уделом как творческой фантазии литератора, так и читательского восприятия3.
Однако то, что литература не в состоянии создать в восприятии читателя, оказывается по силам современному кинематографу. Именно зрение является основным сенсорным каналом обмена информацией между внутрипсихическим миром человека и внешним физическим миром. Поэтому, на наш взгляд, именно визуальные образы приобретают центральное значение в процессе формирования во внутреннем пространстве ощущения и восприятия человека образа внешней действительности. Головной мозг человека, создавая этот образ, непротиворечиво интегрирует всю сенсорную информацию различной модальности, в то же самое время оставляя за зрительной информацией о внешнем мире статус приоритетной, центрирующей и конвергирующей все остальные модальности вокруг себя, как вокруг генерирующего весь образ целиком ядра (Галичкина, Путилова, 2020, 173‒176).
Таким образом, в том числе и поэтому визуальный образ тела человека, имитирующий его отдельные части – конечности, туловище, голову с расположенными на ней органами чувств, обретает особый статус в мире технических устройств, механизмов и машинерии, создаваемых человеком на протяжении многих веков. И не случайно игрушка в форме имитации тела человека – кукла в самом широком смысле – всегда была и остается игрушкой особого рода. Она позволяет ребенку, для которого детское магическое мышление остается открытым каналом взаимодействия с окружающим миром, в своем воображении одухотворить это телесное подобие человека и, общаясь с ним как с равным, находить свои собственные пути вхождения в окружающий мир, заполненный другими, «настоящими» людьми.
Ребенок вырастает, но в его памяти закрепляются и надолго остаются эти эмоционально насыщенные воспоминания о собственном детстве и детских играх, и в том числе поэтому он, взрослея, не оставляет своей детской мечты создать телесное подобие себя самого, пригодное для другой, уже взрослой «игры». Человечество непрерывно движется по оси исторического времени в направлении развития и прогресса, но, даже несмотря на все эти изменения и вновь появляющиеся возможности, у него (или для него) всегда остается нечто, с чем крайне трудно – порой почти невозможно – расстаться. Иначе чем иным можно было бы объяснить столь стремительный прогресс последних лет в направлении достижения все большего визуального тождества между homo naturalis и homo artificalis («человеком природным» и «человеком искусственным» – лат.) вплоть до состояния их полной неразличимости и потрясающего совпадения вербальных и мимических проявлений. Складывается такое впечатление, что это категорически не желающее расставаться с собственным детством и не доигравшее в куклы человечество, получив серьезные «взрослые» знания, подобным образом требует продолжения и завершения незавершенного1.
Кроме того, множащиеся модальности такого рода процессов в современной культуре массовых по широте своего применения электронных устройств с ускорением развиваются по экспоненте. «Робот», или «киборг», перестает быть только метафорой для взрослого человека ровно так же, как кукла перестает быть метафорой для играющего с ней, как с кем-то равным себе, ребенка. Это радикальное и решительное изменение статуса сегодня явно выходит в экстрапер-сональный (общесоциальный) уровень, начиная внутри него влиять даже на чисто человеческую сферу права. Уже известны случаи, когда человек современной электронной культуры не только выразил желание связать свою жизнь в браке с представителем противоположного пола в виде homo artificalis, но и обратил к социуму свое личное требование по поводу того, чтобы этот брак между человеком и роботом стал законным, а это, по существу, есть готовый сюжет для литературного произведения. В современном мире, который стремительно меняется, еще десять лет назад представить себе такое было просто невозможно. Но времена меняются, а нынешние времена – меняются стремительно.
Однако у этих стремительных изменений есть и другая сторона, а именно, если человек добровольно и осознанно принимает собственное решение связать свою личную жизнь с роботом, то можно себе только представить, какой глубины эмоции вызывает в восприятии этого человека его роботизированная вторая половина. Именно в этой метафоре «второй половины» и заключается поистине роковой для человека смысл: он хочет, искренне и страстно желает, чтобы его «вторая половинка» homo artificalis отвечала ему на его страсть к ней эмоциями, равными человеческим по глубине. Но как это можно реализовать? Во-первых, в снах и грезах биологического человека, где очень часто «проигрываются» нереализованные в реальной жизни («фрустрированные») сценарии, в том числе и те из них, которые просто невозможно воплотить в жизнь, но очень этого хочется. Во-вторых, может быть, имеет смысл подождать, пока современный технический прогресс не обретет возможность создания homo artificalis, по глубине и силе проявляемых эмоций максимально приближенного к «естественному» человеку? Весь вопрос здесь в том, окажется ли достаточной для такого ожидания продолжительность человеческой жизни, ибо это пока непредсказуемо.
Существует еще и третий путь – путь создания художественного образа homo artificalis, в своей способности проявления эмоций максимально приближенного к биологическому человеку. Ведь это есть поистине кладезь сюжетных (литература) или сценарных (театр или кинематограф) решений и вариаций, поскольку здесь речь идет уже не о мечте одного отдельного индивида, возможно, просто выжившего из ума и потому только желающего невозможного, нет, эта мечта становится сегодня (см. выше) все более и более массовой. И вот тут зрелищные виды современной массовой культуры могут развернуться (и где-то уже разворачиваются) во всю ширину имеющегося у них потенциала.
Художественная культура, в отличие от науки, не имеет возможности создания методологической матрицы для взаимосвязанной системы алгоритмов и способов перехода от эмоционального мира человека к множественности форм его эмуляции в пространстве искусственного интеллекта homo artificalis, но, безусловно, способна на другое. Она сможет создать символический каркас сменяющих друг друга образов того же перехода, влияние которого на восприятие и мышление массового зрителя или читателя может оказаться даже более сильным по сравнению с эффектами влияния от решения этой же проблемы научным путем.
Последнее предположение ставит исследователя этой проблемы, или потенциального создателя такого роботизированного человека, перед следующим фактом: дискурс «полноценноэмоционального homo artificalis» не может быть только научным или только «инженерно-конструкторским», потому что он просто не сможет удержаться ни в тех, ни в этих пределах. И причина тому – сам человек, сложность его высшей психической деятельности, бездонная глубина его психики, полиформизм образов и полимодальность его восприятия, поливариантность создаваемых его воображением мыслеформ, их последующей эмоциональной атрибуции и т. д. Создаваемый homo artificalis как «герой»/«персонаж» произведения литературы или художественной культуры, воплощающий эмоционально полноценную сторону человеческого общения, должен и в этом плане смотреться на фоне биологического человека естественно, а достижение уровня этой естественности ‒ крайне непростой вопрос, причем особенно непростой для тех жанров художественной культуры, которые создают подвижные визуальные образы.
Причины этого затруднения неоднородны, а именно: образность и символика машинного функционализма в рамках художественной культуры будет очевидно отличаться от аналогичных концепций науки или философии не только актуализируемой семиотикой, но и приемами ее репрезентации. Отчасти это различие проистекает из места, целей и задач науки и философии в деятельности индивида и общества, с одной стороны, и места, целей и задач человеческой культуры ‒ с другой. Также для того, чтобы создать достоверно воспринимаемый визуальный образ «эмоционального робота», следует иметь представление как о законах человеческого восприятия и мышления, так и о законах управления искусственным интеллектом, особенно в плане его квази-эмоционального реагирования на те или иные изменения, которое внутренне может быть не похоже на человеческое, но внешне должно восприниматься как его подобие, и при этом достаточно реалистично.
Таким образом, проблему эмоционального наполнения кинематографического персонажа – робота – нет смысла пытаться решать фрагментарно, потому что здесь будет иметь значение все: роль робота в киносюжете, его влияние на развитие этого сюжета и на другие персонажи, с которыми он взаимодействует по ходу развития фильма. В совокупности это сложная система аспектов, взаимосвязанных друг с другом, как технологических («экранных»), так и психологических, связанных со спецификой зрительского восприятия такого персонажа. И если постановщик фильма наделяет данный персонаж набором эмоций, причем эмоций человеческих, то он рискует заполучить своего потенциального зрителя в качестве аналитика, критика и рецензента в одном лице, за которым остается право «проголосовать» за фильм не только словом, но и покупкой билета.
С технологической точки зрения робот распознает мимику, тональность голоса, жесты человека с помощью специальных датчиков. Труднее распознать настроение и иронию, если они присутствуют, поскольку это визуально не выражено напрямую. По своему статусу решение такого рода задачи однозначно является мультидисциплинарным. Кроме того, для визуализации эмоций самого робота используются очень разные технологии, буквально, в кино как в жизни.
Так, например, робот Марвин из фильма «Автостопом по Галактике» (2005 г.)1 несет в себе чисто человеческий психический дефект. У него МДП, и его эмоции постоянно меняются: то он радуется без причины, то впадает во вселенское и глубочайшее уныние без какого-либо повода, видимо, чтобы зритель не заскучал и досидел до конца фильма. Робот Вертер из фильма «Гостья из будущего» (1984 г.)2 явно наделен эмоциями, поскольку у него прослеживаются и чувство ответственности, и чувство юмора, да и выражение привязанности ему оказывается не чуждо. И еще: Вертер умеет улыбаться совсем как человек.
Робот Электроник из фильма «Приключения Электроника» (1979 г.)1, сбежав, по сюжету фильма, от своего создателя – профессора Громова, очень хочет стать человеком. Пока его биологический близнец, бездельник Сыроежкин, прогуливает школу, Электроник проявляет себя с самой лучшей стороны, стремительно зарабатывая репутацию отличника и образцового пионера. С точки зрения эмоциональных проявлений, фильм полон эмоций, причем все они «правильные», положительные. Вторая сюжетная линия фильма связана с желанием очень нехороших бандитов завладеть роботом для реализации своих криминальных сценариев. Однако удача им совершенно не сопутствует, потому что Электроник обнаруживает поистине человеческие качества преданности и надежности, учится думать и чувствовать как человек и, в конце концов, сам становится человеком.
Особняком от всей этой кинопродукции стоит немного грустная и даже философская комедия положений «Его звали Роберт» (1967 г.)2. Роберт – это имя робота, созданного исследователем Сергеем Сергеевичем, и похожего на него как две капли воды. По своему функционалу Роберт представляет собой механического «сверхчеловека», аккуратного, исполнительного, пунктуального, но лишенного (поначалу) человеческих эмоций. Сергей Сергеевич тестирует свое создание в условиях реального общения с людьми и отправляет Роберта на свидание с невестой одного из своих сотрудников. Парадоксально, но между ними возникает на эмоциональном уровне настолько тесный контакт, что робот начинает безоговорочно исполнять все без исключения желания этой невесты, причем делает это точно и буквально. Со своей стороны, она начинает хитрить и давать Роберту все более «человеческие» по своему эмоциональному содержанию задания, в результате чего он перегружается и выходит из строя. Сергей Сергеевич находит его и забирает в ремонт, оставляя перед зрителем фильма, как и перед самим собой, вопрос о возможности наделения робота человеческими эмоциями, без ответа.
С приходом в новейший кинематограф современных электронных технологий создания визуализированных эффектов, ситуация с созданием «эмоциональных» образов роботов начинает качественно меняться3.
Так, например, в настоящее время энтузиастами даже создается математический аппарат обсчета и поиска корреляций между эмоциональным поведением человека и квази-эмоциональными проявлениями со стороны робота. Эмоции невозможно ни смоделировать, ни распознать без информации об истинных причинах их появления, их генезисе, потому что и в жизни, и в кино они должны быть адекватны ситуации. Думается, что парадоксальность между несоответствием эмоционального типа поведения человека и робота отсылает нас к анализу парадоксальности самой человеческой природы, которая, опираясь на собственные средства и технические инструменты, способна создавать нечто равное и даже превосходящее себя в эмоциональном плане, пытаясь избежать эффекта «зловещей долины».
Однако в настоящее время достичь этого даже технически невозможно. Пока можно говорить только о наработках в теоретическом плане. Идеи создания эмоциональных роботов были высказаны М. Минским в работе «Машина эмоций» (Минский, 2020). Он поставил под сомнение разницу между эмоциями и другими видами мышления. М. Минский считал, что явления, которые обычно приписываются только людям и рассматриваются как исключительно человеческие, могут быть свойственны и разумным машинам. Учёный разбирал человеческие чувства на механизмы и утверждал, что их можно создать и внутри вычислительной системы, которой является робот.
Для этого М. Минский пытается объяснить, как работает разум. Он предлагает схему, которую называет «Общество разума»: разум состоит из агентов (маленьких, бездумных процессов). Сам по себе агент может делать только простые вещи. Но если эти агенты организуются (особым образом) в общества, они могут породить интеллект (Minsky, 1988). Однако это не решает проблему психофизического дуализма Р. Декарта, потому что непонятно, «как кажущийся твердым мозг может поддерживать такие призрачные вещи, как мысли? Хотя человеческая душа и соединена со всем телом, основные свои функции, однако, она выполняет в мозгу. При посредстве мозга она не только постигает и воображает, но и ощущает» (Декарт, 1989: 326).
Эта проблема исчезнет, согласно М. Минскому, если мы поймем, как работает мышление.
Но даже если мы разберемся с мышлением человека, то вопрос о том, как оно репрезентирует эмоции и создает модели «эмоционального робота» с помощью воображения в сценариях современной культуры, будет требовать отдельного рассмотрения. Чтобы создать модель мира, нам нужно добавить дополнительный компонент, представляющий сам мир. В результате, когда мы узнаем о мире, мы узнаем о наших моделях наших моделей мира.
Резюмируя все вышесказанное, мы пришли к следующим выводам:
-
1. Образ эмоционального робота, широко представленный в произведениях современной культуры, отвечает потребностям современного общества в плане запроса на эмоциональность.
-
2. В процессе социально-философского анализа выяснилось, что эмоциональный робот может быть рассмотрен в качестве не только продукта, но и конструкта современной культуры, существование которого указывает на парадоксы самой репрезентации эмоционального робота. Он заключается в том, что презентация – это всего лишь модель, которая позволяет нам описать соответствие эмоций и сознания робота, подобных человеку.
-
3. Парадокс репрезентации эмоционального робота в литературе и кинематографе поднимает философские вопросы о человеческой природе, идентичности, взаимодействии эмоций как части человеческой природы и технологий, как природы «искусственной», «сконструированной». Социально-философская сущность данного парадокса состоит в том, что, с одной стороны, эмоциональные роботы представляют собой попытку исследовать границы чувственности и человечности, что отражает стремление человеческого мышления к созданию «конструкций» в форме репрезентаций, то есть к созданию искусственных форм жизни, способных испытывать и передавать эмоции. С другой стороны, эти репрезентации вызывают глубокие социальные и философские противоречия, касающиеся подлинности эмоций и изучения природы самого человека.
Но главный вопрос здесь, на наш взгляд, состоит в самой парадоксальности утверждений насчет эмоциональных роботов: можем ли мы говорить о человеческих эмоциях применительно к эмоциям механической машины, и что будут значить для нее эмоции?
Особенностью человеческого знания является то, что оно может создавать модель самого себя. А сможет ли стать эмоциональный опыт моделью для своего собственного самопознания? Думается, что ответ на этот вопрос в настоящее время отрицательный.
Список литературы Социально-философский анализ парадокса репрезентации эмоционального робота в литературе и кинематографе
- Галичкина Е.Н., Путилова Э.О. Антропоморфные и реиморфные характеристики робота как персонажа научной фантастики // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2020. № 12. С. 173-176.
- Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. М., 2013. 536 с.
- Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. 654 с.
- Кавинова И.П. Философский анализ проблемы взаимодействия человека с роботами -андроидами в форме новой социальности // Гуманитарный вестник. 2021. № 1 (87). Ст. 2. https://doi.org/10.18698/2306-8477-2021-1-699.
- Карташева А.А. Подходы к распознаванию эмоций в интеллектуальных системах // Технологос. 2020. № 2. С. 15-24. https://doi.org/10.15593/perm.kipf/2020.2.02.
- Кузнецов А.А. Исследование технических особенностей социальных эмоций в робототехнике для социально сознательных роботов // Вестник науки. 2022. Т. 3, № 12 (57). С. 372-375.
- Мамина Р.И., Пирайнен Е.В. Эмоциональный искусственный интеллект как инструмент взаимодействия человека и машины // ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 2. C. 35-51. https://doi.org/10.32603/2412-8562-2023-9-2-35-51.
- Минский М. Машина эмоций. М., 2020. 512 с.
- Ракитов И.Р. Философия, роботы, автоматы и зримое будущее // Философия и общество. 2019. № 3 (92). C. 35-48. https://doi.org/10.30884/jfio/2019.03.03.
- Шиллер А.В. Ошибки и искажения моделирования эмоций в искусственном интеллекте // Ценности и смыслы. 2020. № 5 (69). С. 93-107. https://doi.org/10.24411/2071-6427-2020-10047.
- Bechtel W. Mental mechanisms. N.Y., 2008. 322 p.
- Minsky M. The society of mind. N.Y., 1988. 340 p.