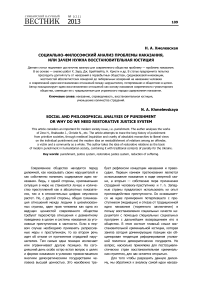Социально-философский анализ проблемы наказания, или зачем нужна восстановительная юстиция
Автор: Хмелевская Наталья Анатольевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 1 (11), 2013 года.
Бесплатный доступ
В ее основе — анализ работ Х. Зера, Дж. Брайтвайта, Н. Кристи и др. В статье предпринята попытка проследить долгий путь от наказаний в первобытных обществах, средневековой инквизиции, жестокостей абсолютистских монархий до либеральных воззрений на наказание человека и современной идеи восстановления отношений между нарушителем, потерпевшим и обществом в целом. Автор позиционирует идею восстановления отношений как основу наказания современного гуманитарного общества, совмещая ее с традиционным для украинского народа содержанием наказания.
Наказание, справедливость, восстановительная юстиция, уменьшение количества страданий
Короткий адрес: https://sciup.org/14113718
IDR: 14113718
Текст научной статьи Социально-философский анализ проблемы наказания, или зачем нужна восстановительная юстиция
Современное общество находится перед дилеммой, как наказывать своих нарушителей и как собственно понимать содержание идеи наказания. Ведь, с одной стороны, криминальная ситуация в мире не становится лучше и количество преступлений как в абсолютных показателях, так и в относительных цифрах неуклонно растет. Но, с другой стороны, общая гуманизация отношений между людьми в цивилизованных странах, идея прав человека как одна из ведущих ценностей современного общества требуют пересмотра отношения к девиантному поведению в целом и системы наказания за уголовные преступления в частности. Если в первом случае необходимо применять репрессивные меры к преступникам, то во втором речь идет об отказе от причинения страданий нарушителям. Тем самым одна позиция исключает или ограничивает другую позицию. На сегодняшний день особо остро встал вопрос о целях и формах наказания в условиях провозглашения многими демократическими государствами человека высшей ценностью. Это неизбежно тре- бует рефлексии концепции наказания и правосудия. Первым камнем преткновения является использование наказания в виде смертной казни, а вторым — собственно мера причинения страданий человеку-преступнику и т. п. Западные страны предлагают использовать их опыт противодействия преступности. Он основывается на идее примирения потерпевшего с преступником (медиации) и отказе от традиционной идеи наказания (тюремного заключения) в пользу восстановления социальных качеств нарушителя с помощью специальных социальных программ с дальнейшим возвращением его в общество. В этом состоит главный смысл восстановительной криминальной юстиции, которая заняла сегодня доминирующие позиции как общемировая тенденция реформирования уголовной политики демократических государств. Но вопрос, насколько приемлема для постсоциалистических стран восстановительная криминальная стратегия, для нас остается открытым.
Для того чтобы разрешить данную дилемму, мы обратимся к анализу самой идеи наказа- ния от истоков до наших дней, то есть проследим, как изменяется восприятие идеи наказания в разных исторических периодах и как это отражается на формах наказания в социальноисторических формациях.
С одной стороны, историю наказания можно определить как ряд прогрессивных шагов, направленных на постепенное уменьшение страданий преступников и гуманизацию правосудия. На смену жестоким публичным казням и пыткам приходит система тюремного заключения, каменные темницы преобразуются в современные камеры с необходимым минимумом удобств и т. д. Но если считать, что в 1703 году отсечение пальцев заменили более мягким наказанием — 10-ю годами лишения свободы или же смертную казнь — пожизненным заключением, то сами заключенные рассматривали длительное пребывание в неволе как более жестокое наказание, нежели смерть или увечья.
С другой стороны, можно сказать, что каждая эпоха представляет собой борьбу за сохранение определенных ценностей с помощью уголовно-правового законодательства. Поэтому подобное рассмотрение конкретных практик наказания будет опровергать существование какого-либо гуманистического начала. Например, сегодня речь идет о человеке, его здоровье и чести как высшей ценности, что, соответственно, абсолютно несовместимо с идеей лишения жизни и вызывает много споров по поводу необходимости «причинения страданий» заключенному пребыванием в изоляции (тюрьме).
История непременно каким-то образом оставляет свой отпечаток на восприятии идеи наказания и его формах, так как каждая эпоха отличается своим виденьем правосудия, права и наказания и т. п. Естественное понимание наказания основывалось преимущественно на талионе, идее справедливого отмщения преступнику. Например, в первобытных общностях племя избавлялось от нарушителей табу-запретов (на кровосмешение, на убийство и т. д.). Их либо убивали, либо изгоняли, что также было равнозначно смерти от холода и голода. Нарушение порядков племени было несовместимо с дальнейшим его существованием и ставило под угрозу будущее общности. Поэтому с помощью наказания восстанавливали нарушенную космическую закономерность существования и тем самым сохраняли безопасность племени.
Начиная с античности ситуация неким образом изменяется. Споры между сторонами разрешались с помощью поединков, правда и справедливость находились на стороне победителя.
И считалось, что тем самым боги наказывают виновного. Позже состязательность была перенесена на судебные разбирательства и проявлялась в красноречии сторон. Хотя наказание при всем этом оставалось не менее жестоким, разница была лишь в способе причинения смерти — четвертование, ордалии, насаживание на кол, забивание камнями или плетьми и другое.
С развитием христианства особый интерес был обращен на духовную сторону жизни, а все телесное стало второстепенным. Для Средневековья физическое наказание выполняло скорее функцию спасения и покаяния перед Божьей карой. Так как любое преступление считалось грехом, то наказание на земле должно было избавить от страданий или же уменьшить их на небесах и таким образом примирить нарушителя с Богом. Поэтому, руководствуясь благими целями, фактически наказания стали еще более жестокими и демонстративными. В эти времена расцветают пытки и истязания. Выколачивание признания вины нарушителем значительно упрощало следствие и ускоряло процесс разбирательств.
Дальнейшее развитие подобных практик нашло свое отражение в период становления абсолютных монархий. Преступление понимали как посягательство на интересы правителя, который был наместником Бога на земле. Преступник считался врагом, от которого следовало публично избавиться. Зрелищные казни посредством гильотины, повешенья, отсекания частей тела палачом и т. п. были направлены на то, чтобы держать народ в подчинении и страхе перед властью монарха. Новое время не только ставит под сомнение идею существования Бога, но и постепенно делает человека центром вселенной, наделяя его неограниченными возможностями. Отрицание существования Бога также отразилось на восприятии правителей, которые были лишены божественного статуса. В свою очередь и наказания утратили некоторую часть своей жестокости, так как суверены уже не могли так сурово наказывать своих подданных. Рационализация общественной жизни способствовала развитию наук и собственно становлению государства, которое, согласно представлениям Дж. Локка, возникало на основании общественного договора. В соответствии с этой теорией общность передает часть своих прав государству для осуществления им правосудия и обеспечения тем самым безопасного совместного проживания граждан. Именно в это время право и система правосудия как инструменты государства обретают четкие очертания. Многочисленные революции способствовали оформлению идеи свободы, которая также стала предметом отмщения. Хотя по-прежнему речь шла о талионе (материальном), когда степень попранной свободы должна была пропорционально пересчитываться на время лишения свободы преступника.
Местом, где нарушители расплачивались своей свободой, стала тюрьма. Рождение тюрьмы явилось знаменательным событием в истории наказания и считалось определенным шагом в сторону смягчения наказания по сравнению с публичными казнями. И почти столетие наказание в виде заключения продолжает быть преобладающим видом наказания. Несмотря на то, что идея тюрьмы, как говорил М. Фуко, критиковалась практически с момента ее возникновения, тем не менее ничего подходящего для ее замены предложено не было.
Например, традиционное представление о наказании как естественной реакции на правонарушение и возмездие за причиненный вред было характерным для естественно-правовой концепции права, которая преобладала до XVIII—ХІХ вв. В рамках возникновения теории общественного договора право жертвы на отмщение плавно перешло в руки государства. Это отразилось не только на возникновении судебных процедур, но и на закреплении их в соответствующих законодательных документах. Кодификация законодательства, в свою очередь, способствовала развитию аналитической юриспруденции и становлению позитивистской доктрины. Таким образом, ХІХ век окончательно закрепил за государством право на принудительное исполнение законов посредством механизмов наказания, т. е. осуществления правосудия. Доминирование тюремного заключения как основной формы наказания вплоть до 80–90-х годов ХХ века принесло свои негативные последствия. Многие государства на современном этапе пожинают плоды подобной репрессивной политики в виде переполненности тюрем, значительных экономических затрат, популяризации криминальной субкультуры и т. п.
Если естественно-правовые теории наказания были ретрибутивистскими, так сказать, ориентировались на отмщение преступнику, то позитивистские теории наказания стали носить сугубо утилитаристский характер, т. е. отдавали предпочтение консеквенциализму и были направлены на предупреждение потенциальных преступников [2]. Но сегодня мы уже не можем ограничиться каким-то одним из предложенных вариантов, так как первый не имеет рычагов влияния на мелких правонарушителей, в связи с чем недостаточно внимания уделяется общей превенции преступности, а второй не имеет эффективных механизмов влияния на злостных нарушителей, чем не выполняется надлежащим образом специальная превенция. И здесь за помощью мы предлагаем обратиться к неопозитивисту Г. Харту, который предлагает нам компромисс. Он рекомендует объединить обе формы наказания: отдельного преступника следует наказывать согласно действию, которое он совершил (позиция ретрибутивизма), но при этом наказание как общую социальную практику следует воспринимать с точки зрения предупреждения преступности в целом (позиция консек-венциализма).
Можно сказать, что недееспособность тюрьмы и пространств заключения дала о себе знать уже во время перехода от дисциплинарного общества к обществу контроля, о котором говорил Ж. Делез. Так как современное общество отличается своей «текучестью», то в условиях постоянного «серфинга» оно уже не может отягощать себя длительными обязательствами (экономически невыгодными тюрьмами, больницами, школами и т. п.). Сегодня мы имеем дело с новым типом отношений, для которых характерна постоянная мобильность, например, дистанционная учеба, онлайн-консультации, мобильная связь и т. д. [3].
Но вместе с тем еще Ч. Беккариа вывел главный принцип наказания, что оно должно перевешивать все выгоды, которые могло принести совершение преступления, в противном случае оно утратит свой естественный смысл. Таким образом, наказание обязано приносить определенные ограничения и страдания, вопрос только в их пределах.
Сегодня бытует мнение о кризисе карательного правосудия. Хотя традиционное правосудие и признает, что основывается на защите прав человека и авторитете буквы закона, но множественные примеры доказывают несостоятельность, недееспособность карательной системы юстиции справиться с проблемой преступности. Исправление преступника в местах лишения свободы вызывает значительные сомнения, так как часто приводит к озлоблению нарушителя против правосудия, государства и общества в целом. И тем самым в общество возвращается неполноценная, искалеченная личность, которая продолжает сеять вокруг себя зло.
Статистика преступлений по Украине за последние 10 лет свидетельствует о том, что количество совершенных преступлений либо уменьшается, либо остается тем же, тогда как количество заключенных увеличивается. Конечно, мы не говорим о том, чтобы отменить наказание как таковое. Но имея такую картину, приходится согласиться с Н. Кристи, что, реагируя на преступления посредством наказания, капиталистические государства сами порождают преступников (определяя то или иное действие как уголовно наказуемое). Поэтому если суровое наказание не приносит нужного эффекта, несоразмерно той цене, которую за него приходится платить государству, обществу, нарушителю и потерпевшему, то возникает вопрос, почему не сделать это наказание более мягким и рентабельным для всех сторон. Можно предложить несколько выходов из сложившейся ситуации. Либо отказаться от уголовного закона в целом, что не выдерживает никакой критики, либо же глубже вникнуть в преступление как социальное явление и определить реальные грани уголовно-правовых запретов (здесь мы снова обращаемся к моральным пределам совместного проживания граждан), которые неизбежно приведут к возникновению новых правовых категорий и институций.
Также неэффективным оказалось механистическое применение фиксированных наказаний, которое имело место в ХХ веке в США. Казалось бы, определение наказания с помощью компьютера должно было упростить систему наказания: через введение соответствующих данных, которые переводились в баллы, и с помощью формул машина предлагала наиболее оптимальное наказание. Но на самом деле подобная практика проявила себя как крайне несправедливая, так как абсолютно обезличивала человека-преступника, еще больше увеличивала дистанцию между нарушителем и потерпевшим, обществом. Комитет по исполнению наказания, не учитывая индивидуальные особенности, социальные и другие характеристики индивидов, тем самым намеревался уравнять богатых и бедных перед законом. Но вследствие таких изменений для первой категории преступников мало что изменилось, тогда как наказания для менее обеспеченных категорий населения стали еще более суровыми. Поэтому современное наказание в условиях гуманизации жизни общества должно быть ориентировано на поиск более человечных форм реагирования на преступление.
Уже после Второй мировой войны в мире определились тенденции к сокращению и впоследствии отмене многими государствами смертной казни. Этому способствовало признание Общей декларации прав человека в 1948 году. Современное общество официально при- знает человека, его здоровье, честь и достоинство наивысшей ценностью. В связи с этим начинает изменяться как отношение к человеку в целом, так и отношение к человеку-преступнику. Современное высококультурное общество не может себе позволить лишать человека жизни, даже несмотря на то, что он, например, убийца. За исполнением смертной казни в любом случае стоят люди. Кто-то должен отдать приказ, кто-то нажать на кнопку электрического стула либо сделать смертельную инъекцию и т. п. Речь идет о том, что если говорить о наказании как о моральном благе, которое необходимо обществу для поддержания порядка, то оно не может осуществляться аморальными методами. Поэтому новое отношение к человеку, соответственно, требует пересмотра целей и содержания наказания.
Исходя из этого, представители концепции восстановительной юстиции предлагают вернуться к системе обычного права. Такое право основывалось на понимании преступления как общегрупповой проблемы, которую решали на народном собрании согласно принятым в данной общности критериям справедливости. Акцент ставился на обязательном восстановлении отношений сторон конфликта. Это подразумевалось само собой, так как малочисленность группы рано или поздно обязывала к дальнейшему взаимодействию, а неразрешенный спор мог перерасти и в войну между ее членами, что могло поставить под угрозу дальнейшее существование объединения. Современный человек в условиях развития биологического, химического, ядерного, информационного и другого оружия должен осознавать свою власть, так как неразрешенные противоречия могут привести к гибели не только виновника, но и целых городов, стран и т. д. неповинных людей. Поэтому главная цель современного наказания должна основываться на ненасильственном решении конфликта сторон преступления. Экстраполируя это на новый лад, мы можем говорить о том, что современное наказание должно привести к осознанию преступником своей вины и его потребности в возмещении причиненного своими действиями (бездействием) вреда. Как сказал Х. Зер: «Настоящая ответственность — это понимание того, как и кому ты нанес ущерб, и возмещение его» [4, с. 4; 6].
Всемирное движение за восстановительное правосудие тесно связано с именами Х. Зера, Н. Кристи, Дж. Брайтвайта и др. Оно возникло в США в условиях борьбы за права американских граждан. Борьба чернокожих заключенных за равные права с белыми заключенными, женщин за равные права с мужчинами и т. п. стала катализатором для некоторого смягчения форм наказания и создания альтернативного, неофициального правосудия. Многочисленные религиозные и общественные объединения предлагали разные социальные программы, которые способствовали бы примирению сторон: семейные конференции, круги правосудия и т. д.
Восстановительное правосудие основывается на более широком, нежели в талионе, понятии справедливости. Х. Зер предлагает для образца использовать идею библейского шалома (шалом — евр. — мир, примирение, иногда жертвенное). Современное понимание справедливости можно считать дуалистическим. С одной стороны, должно быть фактическое равное справедливое отношение ко всем гражданам со стороны государства и общества (равенство перед законом), а с другой — что касается уголовного правосудия, то наказание следует понимать как равную отплату (речь идет о принципе символического талиона) и индивидуальное отношение к каждому случаю. И когда Х. Зер говорит о справедливом наказании, он объединяет обе стороны справедливости как части единого целого — гармонии. Таким образом, восстановительные практики представляют собой модель реагирования на преступное поведение, которая учитывает баланс интересов всех сторон преступления — потерпевшего, преступника, государства и общества. Поэтому образовавшийся диалог (коммуникация, медиация и др.) способствует восстановлению разрушенных социальных отношений [5].
Согласно теории воссоединительного стыда Дж. Брайтвайта, в условиях социального и внутреннего давления (совести, стыда) индивид пребывает в состоянии постоянного выбора линии своего поведения. Он самостоятельно принимает решение относительно законного или противозаконного образа жизни, самостоятельно соотносит себя с девиантной социальной ролью или же с ролью законопослушного гражданина. Данная теория противопоставляет уважение к закону как последствие убеждений и разъяснений, репрессивным мерам контроля. С точки зрения Дж. Брайтвайта, социальный контроль, который заставляет задуматься над своим поведением, является более эффективным, нежели осуждающий и клеймящий. Поэтому культура, которая воспроизводит высокие моральные требования и публично об этом заявляет, обеспечивает более действенный контроль над нарушением норм, чем культура, ко- торая рассматривает контроль лишь как способ причинения боли своим правонарушителям [1, с. 64—65]. То есть стыд должен быть конструктивным: поругав преступника, по возможности его следует простить и тем самым способствовать сохранению социальных связей между преступником и обществом. Такой стыд выполняет превентивную функцию, он указывает на высокий уровень терпимости к индивидам, поведение которых не создает больших негативных последствий [1, с. 66—67].
Юстиция причастных Н. Кристи (концепция компенсаторной юстиции) акцентирует внимание не на тяжести преступления, а на самом процессе разрешения конфликта. Криминолог говорит об опасности утраты положительного конфликта. Такой конфликт — диалог между преступником и жертвой, он мог бы способствовать выяснению отношений между сторонами и решению многих личных вопросов. Можно сказать, что государство «похитило» этот конфликт и решает его по своему усмотрению. После того как жертва обратилась с проблемой к государству, ее фактически автоматически отстраняют. В результате чего, по мнению Н. Кристи, «мы утрачиваем возможность определения нормы, теряем собственно возможность педагогического влияния, теряем возможность постоянного обсуждения того, что является правом для нашего государства… Мы не имеем возможности понять, насколько неправ преступник и прав потерпевший» [6, с. 99]. В психологии давно говорят о том, что любую проблему надо обговаривать, только так можно прийти к соглашению и ее решению. Однако юстиция причастных невозможна в обществах с сильной централизованной властью. Так как последняя основывается не на приказе, а на выборе линии поведения гражданами. Поэтому для таких государств подобный вариант может рассматриваться как угроза существующему равновесию. Конечно, государство не может быть отстранено от разрешения подобных вопросов, так как это чревато возникновением открытого противостояния и возвращением общества к естественному состоянию. Но, в свою очередь, государство должно играть меньшую роль в разрешении уголовных конфликтов, предоставляя некую свободу действий потерпевшему в разрешении его проблемы.
В связи с этим реформирование уголовной юстиции целесообразно строить таким образом, чтобы дифференцировать участие потерпевшего, преступника, государства и общественности в совершении правосудия. Участие обществен- ных организаций в разрешении конфликтов-преступлений, члены которых активно взаимодействуют между собой, создает дополнительное поле для коммуникации и обсуждения проблемы и выступает действенным противовесом государственной власти. По отдельности каждая организация не представляла бы никакой опасности для государства и удовлетворяла бы отдельную категорию граждан по интересам. А совместными усилиями они могли бы отстаивать отдельные важные моменты и противопоставлять себя государственной власти, представлять для нее значительного противника. Юстиция причастных могла бы увеличить выживаемость местных ценностей на государственном уровне, потому что всем известно, что разнообразие вида способствует его выживанию. Как считает Н. Кристи, местные общности могли бы достичь успеха, будучи настолько маленькими, чтобы их не надо было «завоевывать», настолько разными, чтобы их сложно было подчинить какому-то единому порядку, настолько дружными, чтобы они могли заставить «гигантов» признавать их права на существование [6, с. 119]. В таких перспективах восстановительная юстиция могла бы способствовать сохранению культурного разнообразия.
Таким образом, мы имеем две крайности: либо маленькое общество с приблизительно одинаковыми понятиями справедливости и риском, что кто-то может настаивать на более суровом наказании и общество не сможет самостоятельно решить эту проблему, либо большое централизованное общество, которое четко все держит под контролем, но всегда остается риск, что само общество может переступить достаточную грань причинения страданий преступнику. То есть современные общества должны постоянно поддерживать подобное равновесие и этому способствует общественность (гражданские объединения), которая в данном случае будет выполнять функцию социального контроля над деятельностью государственных институций.
Большинство западных стран, которые провозгласили себя демократическими, правовыми, социальными государствами, отдают предпочтение восстановительным социальным программам противодействия преступности. Кроме того, в 2006 году ООН было рекомендовано всем странам ЕС ориентироваться на использование модели восстановительного правосудия.
В целом восстановительная юстиция, основываясь на идее справедливого возмездия, представляет собой ретрибутивистское отношение к наказанию. Но в противовес ей мы не можем согласиться с тем, что карательная юсти- ция занимается только превенцией, так как применение репрессивных мер (собственно кары) к преступнику также можно расценивать как отмщение преступнику. Если обратиться к наработкам Г. Харта, то уже в его идеях компромисса между ретрибутивизмом и консеквен-циализмом можно увидеть акцент на необходимости обоюдного использования восстановительного и карательного правосудия, которые в принципе дополняют одно другого. Так как надеяться на утопическую идею высокой правовой культуры и правосознания граждан можно, но более надежным залогом соблюдения законов, по крайней мере для постсоветского менталитета, остается угроза применения наказаний. Кроме того, использование идеи восстановительного правосудия на примере зарубежных стран хоть и внесло некое гуманистическое начало в уголовную политику, но окончательно решить проблему преступности в целом невозможно. Еще Э. Дюркгейм обратил внимание на ее естественный социальный характер. Там, где присутствуют нормы и правила, там неизбежны и факты их нарушения. Лишь правильная реакция государства и общества на преступления (т. е. наказания) в некоторой степени может сдерживать преступников и совершение преступлений. Поэтому новая модель криминальной юстиции как для Украины, так и для постсоветских стран должна объединять и восстановительный, и карательный подходы, что более полно будет соответствовать духу славянского народа.
Выводы
Распространение идей гуманизма, возрастание уровня морально-правовой культуры населения, повышение цивилизованности и правового сознания граждан в процессе демократизации требуют реальных изменений в реагировании на преступность как социальное явление. Для украинского государства возникает логическая необходимость изменения акцентов в системе правосудия — смещение от карательной к восстановительной модели правосудия (от репрессивных методов противодействия преступности к альтернативным ненасильственным методам). Однако учитывая менталитет и традиции украинской нации, мы не можем ограничиться исключительно восстановительными практиками, так как существует опасность утраты воспитательного механизма наказания как такового (общая и специальная превенция). Восстановительная юстиция для Украины не должна полностью заменить карательную модель правосудия, а лишь придать ей восстано- вительный характер в ряде отдельных случаев, например, по отношению к некоторым категориям населения (несовершеннолетним, женщинам, инвалидам; в отношении лиц, действия которых не представляют большой общественной опасности, и т. п.). Вместе с тем наказание в виде лишения свободы должно считаться крайним случаем и применяться только тогда, когда другие способы наказания не дают основания предполагать, что преступник сделал надлежащие выводы, возместил причиненный ущерб и готов к восстановлению социальных отношений и возвращению в общество.
-
1. Брайтвайт Дж. Теория воссоединяющего стыда : пер. с англ. // Человек. 2002. № 3. С. 64—76.
-
2. Дафф Э., Гарланд Д. Размышления о наказании / пер. с англ. О. Алякринского // Индекс. Досье на
цензуру. 2003. № 18. URL: http://www.index.org.ru /journal/18/18-daffgar.html.
-
3. Делез Ж. Общество контроля. PostScriptum : пер. с фр. // Элементы. 2000. № 9. С. 67—95. URL: http://my.arcto.ru/public/9deleuze.htm .
-
4. Зер Ховард . Введение в восстановительное правосудие // Вестн. восстановительной юстиции: перспективы для уголовной и ювенальной юстиции. М. : Центр «Судебно-правовая реформа», 2000. Вып. 1. С. 4—14. URL: http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Вестник-восстановитель-ной-юстиции-№-1.pdf (текст представляет собой лекцию, прочитанную в сентябре 1998 г. в НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ).
-
5. Карнозова Л. М. Уголовная юстиция и гражданское общество. URL: http://www.igpran.ru/public/ publiconsite/Karnozova%20-%20Ug.yus%20i%20 grajd.obsh.doc.
-
6. Кристи Нильс. Пределы наказания / пер. с англ. В. М. Когана ; под ред. А. М. Яковлева. М. : Прогресс, 1985. 176 с.
Список литературы Социально-философский анализ проблемы наказания, или зачем нужна восстановительная юстиция
- Брайтвайт Дж. Теория воссоединяющего стыда: пер. с англ.//Человек. 2002. № 3. С. 64-76.
- Дафф Э., Гарланд Д. Размышления о наказании/пер. с англ. О. Алякринского//Индекс. Досье на цензуру. 2003. № 18. URL: http://www.index.org.ru/journal/18/18-daffgar.html.
- Делез Ж. Общество контроля. PostScriptum: пер. с фр.//Элементы. 2000. № 9. С. 67-95. URL: http://my.arcto.ru/public/9deleuze.htm.
- Зер Ховард. Введение в восстановительное правосудие // Вестн. восстановительной юстиции: перспективы для уголовной и ювенальной юстиции. М. : Центр «Судебно-правовая реформа», 2000. Вып. 1. С. 4—14. URL: http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Вестник-восстановительной-юстиции-№-1.pdf (текст представляет собой лекцию, прочитанную в сентябре 1998 г. в НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ).
- Карнозова Л. М. Уголовная юстиция и гражданское общество. URL: http://www.igpran.ru/public/publiconsite/Karnozova%20-%20Ug.yus%20i%20 grajd.obsh.doc.
- Кристи Нильс. Пределы наказания/пер. с англ. В. М. Когана; под ред. А. М. Яковлева. М.: Прогресс, 1985. 176 с.