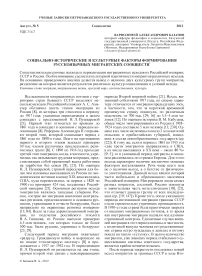Социально-исторические и культурные факторы формирования русскоязычных мигрантских сообществ
Автор: Базанов Варфоломей Александрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5 (126), 2012 года.
Бесплатный доступ
Сопоставляются различные подходы к периодизации миграционных исходов из Российской империи, СССР и России. Особое внимание уделяется культурной идентичности мигрантов различных исходов. На основании приведенного анализа делается вывод о наличии двух культурных групп мигрантов, разделение на которые является результатом различных культур социализации и условий исхода.
Миграция, миграционные волны, "русский мир", соотечественники, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14750183
IDR: 14750183 | УДК: 314.7
Текст краткого сообщения Социально-исторические и культурные факторы формирования русскоязычных мигрантских сообществ
Исследователи миграционных потоков с территории стран бывшего СССР выделяют несколько исходов. Российский социолог А. С. Ахи-езер обозначил шесть этапов эмиграции из России [8], из которых три относятся к периоду до 1917 года; указанная периодизация в целом совпадает с предложенной Н. Л. Пушкаревой [21]. Первый этап относится ко времени до 1861 года и совпадает в основном с периодом колонизации [8]. Реформы Александра II открывают второй этап, который охватывает период с 1861 года по 1890-е годы. Всего на протяжении первого и второго этапов выехало примерно 30 тыс. членов различных преследуемых религиозных групп [8]. С 1890 по 1914 год проходит третий этап эмиграции, когда, в частности, укрепилась так называемая трудовая миграция, представляющая собой временный выезд работника на заработки без семьи [8], [21]. По оценкам Н. Л. Пушкаревой, страной переселения для более чем половины выезжавших из России по экономическим мотивам в конце XIX века являлись США, куда переместились за период с 1820 по 1900 год примерно 424 тыс. подданных Российской империи [21]. Основным регионом исхода эмигрантов являлись западные губернии России, «острие же миграции населения центральных регионов, представленного в основном русскими, украинцами и отчасти белорусами, было направлено на окраинные регионы империи» [13; 84]. Всего за годы дореволюционной эмиграции, по подсчетам российского этнолога В. А. Тишкова, из России выехали примерно 4,5 млн человек, «из которых только не более 500 тыс. были русские, украинцы и белорусы» [23; 29].
Следующий период миграции охватывает «разруху, Гражданскую войну и выросшую на их основе тоталитарную систему» [8] и продолжается с 1917 по 1952 год. В периодизации Н. Л. Пушкаревой он разделяется на два этапа, причем второй этап связан с невозвращенцами периода Второй мировой войны [21]. Исход, вызванный событиями 1917 года, по своему характеру отличается от миграции предыдущих эпох, в частности, тем, что за короткий временной промежуток страну покинули, по различным подсчетам, от 700 тыс. [29; 16] до 3,5–4 млн человек [12]. По оценкам историка В. М. Кабузана, общее число эмигрировавших из России в 1918– 1924 годах составило 5 млн человек [13; 230]. Однако в их число включены и около 2 млн жителей польских и прибалтийских губерний, вошедших в состав новообразованных государств (ср. [22]). К тому же, если в период с 1861 по 1915 год «две трети эмигрантов направлялись в США, а из числа выехавших в ХХ веке – около 80 %» [9; 5], то в указанный период мигранты в основном рассеивались по странам Европы. Для этого исхода характерно наличие достаточно мощных факторов выталкивания. Речь чаще всего шла не о наличии выгод, а о бегстве от физического уничтожения. Данный исход явился потерей части мобильного и образованного населения Российской империи. Мигрировали люди самых разных возрастов, сословий. Россию покинула и значительная часть интеллигенции [18], [21], что отличает данную группу от всех последующих (ср. [19; 147]). Кроме того, после указанного периода интенсивной миграции границы СССР стали стремительно утрачивать проницаемость. В 1930-е годы страна была практически закрыта от внешних миграционных потоков, в то время как внутренние миграции подпали под административный контроль. Единичные случаи внешней миграции в этот период связаны, в частности, с политикой выкупа человека его родственниками: страна остро нуждалась в деньгах и потому пошла на такую «уступку». В целом количество мигрантов, уже знавших период стабильного существования системы советского государства, является крайне незначительным.
После периода закрытости последовал новый исход мигрантов за границы СССР в ходе Вто- рой мировой войны, когда за пределами СССР, по разным оценкам, оказалось от 0,7 [17; 143] до 10 млн [9; 7] «невозвращенцев». Чередование периодов закрытости и массовых исходов позволяет употреблять при описании данных периодов миграции термин «волна». «Это скорее образное, чем научное понятие», однако «оно получило широкое распространение и терминологически устоялось» [17; 498]. Более того, некоторые исследователи (см., например, [9], [12], [18]) начинают отсчет исходов именно от миграции после 1917 года. В большинстве публикаций термином «первая волна» обозначается именно этот исход мигрантов. Вариацией данной периодизации можно считать идею обозначения всех миграций до 1917 года как «первой волны» [15], но такой подход является исключением.
К первой волне примыкает вторая волна мигрантов – переселенцы периода Второй мировой войны. Это граждане СССР, оказавшиеся на территории Третьего рейха и по разным причинам не возвратившиеся в страну исхода. В данный период они оказывались вне страны происхождения, в основном как военнопленные и как вывезенная за рубеж рабочая сила; наблюдается и спонтанное бегство мирного населения от наступающих частей Красной армии. Мигранты, которых в силу этнической принадлежности приглашали в Германию (фольксдой-че, финны-ингерманландцы), составляют лишь незначительную часть мигрантов (4 и 0,7 % соответственно) [16; 135–136]. Мигрировали люди, социализированные в системе функционирующего советского государства. Cвою роль в этом процессе сыграло информационное пространство: советские граждане очень часто не верили официальной информации. Выпав из информационного пространства своей страны, они стали критически относиться к существующему положению дел на родине. В то же время еще были на слуху пересказы воспоминаний о поездках в Европу представителей дворянского сословия. Нельзя не отметить и влияние рассказов весьма небольшого числа граждан СССР, бывавших в зарубежных командировках. Это впоследствии также повлияло на миграционные намерения. Важным является и то обстоятельство, что мигранты указанного периода пережили последствия усилий правительства Советского Союза по насильственной репатриации. При этом власти стран-союзниц СССР по антигитлеровской коалиции в большинстве случаев не только содействовали репатриации, но и выдавали властям мигрантов даже первой волны [16; 237].
Третья волна миграционного исхода из СССР, или исход периода холодной войны [17; 516], начинается с послевоенного времени и условно заканчивается 1991 годом, принятием закона, снимающего ограничения на выезд за границу. В период с 1948 по 1990 год из СССР выехали, по разным оценкам, от 0,5 млн [17; 500] до 1,1 млн [12] человек (ср. [18], [20; 46]). Согласно периодизации А. С. Ахиезера, эмиграция с 1952 по 1992 год относится к пятому этапу, когда происходит «стягивание других народов на свою этническую территорию» [8], что проявляется в эмиграции национальных меньшинств – евреев, греков, немцев и др. В этой связи данный миграционный исход может называться русским с определенной долей условности, поскольку объединяет 1 136 300 выходцев из СССР разной этнической принадлежности. В этот период из Советского Союза выехали 414 400 немцев, 300 000 евреев, 84 100 армян, 24 300 понтийских греков, 18 400 человек, принадлежащих к общинам баптистов и пятидесятников, и 2800 представителей других национальностей [26; 6]. Покидали страну и диссиденты, причем изменение интенсивности их выезда позволило Н. Л. Пушкаревой выделить в рамках указанных хронологических рамок «доперестроечный» и «перестроечный» этапы миграции [21].
С одной стороны, нужно отметить отсутствие в Советском Союзе базы правового регулирования миграции, а следовательно, юридическое непризнание за гражданами Советского Союза права на выезд из страны. Это обстоятельство позволяло правительству по своему усмотрению разрешать выезд, причем разрешение могло даваться не в связи с особенностями запросов, а выступать как предмет торга с западными странами, как демонстрация доброй воли на внешнеполитической арене. Таким образом, эмиграция находилась под полным контролем государства. С другой стороны, основная часть мигрантов не относилась к «перебежчикам»: люди легально получали выездную визу, переезжали границу. Миграцию данного периода «можно считать наиболее этнизированной и в то же время наименее европейской» [17; 517]. Необходимо отметить существенную размытость миграции указанного периода в географическом и временном планах. Динамика развития страны исхода и этническая разнородность эмигрантов не позволяют объединить их в единую культурную группу.
После вступления в силу Закона о въезде и выезде (1 января 1993 года) начинается, по периодизации Н. Л. Пушкаревой и А. С. Ахиезера, шестой этап эмиграции, продолжающийся и в настоящее время. Трансформация политической системы послужила причиной массового переселения жителей стран бывшего СССР в страны Западной Европы. Согласно другой периодизации, в период с 1991 года начинается «четвертая волна» миграции, которая также продолжается по настоящее время (см., например, [20; 54]). Термин «волна» в данном случае вполне обоснован ввиду массовости исхода: за 11 лет (1990– 2000) из России выехали примерно 1,1 млн человек [12]. Отметим, что, по мнению некоторых исследователей, отсчет четвертой волны следует начинать с 1990 года, «когда процесс либерализации политической жизни в стране действительно снял с повестки дня проблему въезда и выезда, когда выезжать стало можно легально, добровольно…» [7], ср. [17; 502]. Для миграции указанного периода характерна черта, свойственная эмиграции из многих стран в эпоху глобализации, – предопределение экономическими, а не политическими факторами [12].
Если первая и вторая волны регулировались в большей степени условиями страны исхода, то четвертая – политикой принимающих стран. Так, рассмотрение миграционных потоков в Германию показывает, что именно особенность программ ФРГ оказала определяющее воздействие на структуру четвертой волны. «Несмотря на открывшиеся двери, возможности эмиграции россиян за пределы СНГ очень ограничены, что теперь уже определяется политикой принимающих стран» [11]. В соответствии с переселенческими программами германского правительства в структуре мигрантов из стран бывшего СССР выделяются три группы: «русские евреи», «русские немцы» и русские, не попавшие под действие программ для двух первых категорий. При этом наличие программ поддержки и привилегий гомогенизирует группы и выделяет их границы. В то же время мигранты данной волны образуют единую культурную группу. Несмотря на этническую разнородность мигрантов, языком их повседневного общения в подавляющем большинстве случаев является русский, поэтому к ним применим термин «русскоязычные». Значимым является и то обстоятельство, что представители местного населения воспринимают их скорее как русских из СССР (ср. [28; 10]). Общим для всех представителей данной волны является то, что основные этапы социализации были пройдены ими в постсоветское время. Так, согласно выводам Дж. Домерника, большинство еврейских переселенцев относятся к категории, называемой «советский потребитель» [25; 11].
Для указанного периода характерно стремление общественных и правительственных организаций к сотрудничеству с эмигрантами, готовность к установлению контактов и международным обменам. Так, 5 марта 1999 года был принят Закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» [5]. Сайт МИДа России содержит ссылку на информацию для «соотечественников» [3], см. [1], проводятся специальные правительственные программы. В соответствии с Указом Президента России № 1315 от 06.09.2008 года создано Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотруд- ничеству (Россотрудничество) [4]. В 15 российских регионах созданы советы по связям с соотечественниками [10]. Фонд «Русский мир» открывает свои представительства по всему свету [6]. При этом и сами мигранты стали все чаще организовывать ассоциации с целью сохранения культурных традиций.
Таким образом, волны эмиграции различаются не только по временным периодам. Мигрантов первой волны отличает то, что они являются носителями досоветской культуры; присутствует идея консервации данной культуры для возвращения в страну исхода; существование советского строя воспринимается ими негативно. Мигранты второй волны в целом влились в первую. Определенную роль в этом сыграл факт принадлежности мигрантов данных волн преимущественно к одному поколению, а следовательно, наличие преемственности уничтожаемой в стране исхода культуры. Кроме того, внешним закрепляющим фактором послужила политика страны исхода по отношению к мигрантам: государство всячески пыталось преуменьшить значение данной группы [27; 102] и даже физически уничтожать мигрантов [16].
Политика прерывания преемственности, построение нового общества в стране исхода привели к заметному разрыву в идентификации с последующими волнами миграции. Третья и четвертая волны эмиграции уже не могли составить единое целое с более ранними исходами. В условиях глобализации оформились и иные группы факторов миграции социально-экономического и демографического порядка. Для мигрантов четвертой волны характерны скорее экономические факторы притяжения и выталкивания [12], [19; 154]. При этом важно, что несмотря на факт миграции из разных стран, подавляющая часть эмигрантов четвертой волны прошла основные этапы социализации в культурном пространстве СССР.
Описанные особенности миграционных исходов позволяют предполагать возникновение в странах Европы общин мигрантов разной культуры. Наиболее уместно делить представителей миграционных исходов на две группы. Первую, обозначаемую обычно термином «русское зарубежье» [20; 47] или «старая эмиграция» [21], образуют представители первой и второй волн миграции. Вторая группа, которую с учетом культуры социализации можно условно обозначить как «советскую эмиграцию» [7], включает переселенцев третьей и четвертой волн миграции. Для преодоления конфликтности и напряженности между общностями большое значение имеет объективное и точное знание ценностных (культурных) систем соответствующих общностей, качественное и количественное соотношение между ними.
* Статья написана при поддержке гранта Германской службы академических обменов (DAAD).
Список литературы Социально-исторические и культурные факторы формирования русскоязычных мигрантских сообществ
- Законодательство Российской Федерации применительно к соотечественникам [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ln.mid.ru/ns-dgpch.nsf/zakon
- Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, одобренная Правительством РФ
- сентября 2001 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya.html
- МИД России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mid.ru
- Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusintercenter.ru/
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2009 г. № 214-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”». Принят Государственной Думой 17 июля 2009 года. Одобрен Советом Федерации 18 июля 2009 года//Российская газета. 2009. 28 июля. № 4961. Федеральный выпуск. С. 2.
- Фонд «Русский мир» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russkiymir.ru/ru/СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Андреев В. Особенности развития российской диаспоры за рубежом 17.04.2008 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russkiymir.m/russkiymir/ru/publications/articles/article0073.htmr?print=tre
- Ахиезер А. С. Эмиграция как индикатор состояния российского общества. 2004 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/hrono_retro/indication/
- Вишневский А. В., Зайончковская Ж. А. Волны миграции: Новая ситуация//Свободная мысль. 1992. № 12. C. 4-16.
- Дашков С. МИД доволен. Подведены итоги работы с соотечественниками в 2008 году//Российская газета. 2008.
- Зайончковская Ж. А. Трудовая миграция из России под прессингом Шенгена. 2005 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://migrocenter.ru/science/science016.pphp
- Зайончковская Ж. А. Эмиграция в дальнее зарубежье. 2004 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. archipelag.ru/ru_mir/volni/4volna/out-migration/
- Кабузан В. М. Русские в мире: Динамика численности и расселения (1719-1989). Формирование этнических и политических границ русского народа. СПб.: Блиц, 1996. 352 c.
- Кабузан В. М. Движение населения в Российской империи//Отечественные записки. 2004. № 4 (18). С. 82-93.
- Межуев Б. В. Последняя эмиграция? 2000 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/4volna/posled/
- Полян П. М. Жертвы двух диктатур: жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. М.: РОССПЭН, 2002. 894 c.
- Полян П. М. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию//Россия и ее регионы в XX веке: территория -расселение -миграции/Под ред. О. Глезер, П. Поляна. М.: ОГИ, 2005. С. 493-519.
- Попков В. Д. Основы Русского мира: векторы формирования единого пространства соотечественников. 13.05.2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/analytics/article/news0002.html
- Попков В. Д. Эмиграция из Российской империи Советского Союза в Европу: сравнительный анализ//Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. Т. X. № 3. С. 143-159.
- Попков В. Д. Русскоязычные пространства за рубежом: специфика формирования и основные особенности//Вестник Института Кеннана в России. 2011. № 19. С. 45-57.
- Пушкарева Н. Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за рубежом // Российская история. 1996. N 1(январь-февраль). С.53–69.
- Тарле Г. История российского зарубежья: термины; принципы периодизации//Культурное наследие российской эмиграции: 1917-1940. Кн. 1. М.: Наследие, 1994. С. 16-24.
- Тишков В. А. Где и когда российская диаспора?//Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX-XX вв. М.: ИРИ РАН, 2001. С. 27-35.
- Трудовая миграция в странах Центральной Азии, Российской Федерации, Афганистане и Пакистане. Аналитический обзор. Алматы, 2005 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://iom.ramdisk.net/iom/images/uploads/IOM-Labour-Migration-in-Central-Asia005_1118060229.pdf
- Doomernik J. Going West: Soviet Jewish Immigrants in Berlin Since 1990 (Research in Ethnic Relations Series). Aldershot: Avebury, 1997. 167 s.
- Heitman S. The Third Soviet Emigration: Jewish, German and Armenian Emigration from the USSR since World War II. Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien. Köln, 1987. 108 s.
- Hettlage R. Diaspora: Umrisse einer soziologischen Theorie//Identität in der Fremde. Bochum: Brockmeyer, 1993. S. 75-105.
- Ingenhorst H. Die Rußlanddeutschen. Aussiedler zwischen Tradition und Moderne (Сampus Forschung). Frankfurt/Main: Campus-Verlag, 1997. 242 s.
- Robinson P. The White Russian Army in exile. Oxford: darendon Press, 2010. 257 p.