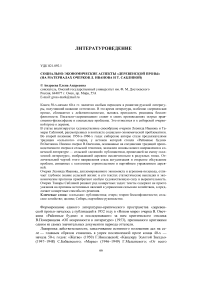Социально-экономические аспекты "деревенской прозы" (на материалах очерков Л. Иванова и Т. Саблиной)
Бесплатный доступ
Конец 50-х-начало 60-х гг. является особым периодом в развитии русской литературы, получивший название «оттепели». В это время литература, особенно «деревенская проза», сближается с действительностью, пытаясь преодолеть рецидивы бесконфликтности. Писатели-«деревенщики» ставят в своих произведениях острые нравственно-философские и социальные проблемы. Это относится и к сибирской очерковой прозе о деревне.В статье анализируется художественное своеобразие очерков Леонида Иванова и Тамары Саблиной, рассмотренных в контексте социально-экономической проблематики. Во второй половине 1950-х-1960-х годах сибирские авторы стали продолжателями традиции «сельского» очерка, у истоков которой стояли «Районные будни» В.Овечкина. Именно очерки В.Овечкина, основанные на соединении традиций производственного очерка и сельской тематики, заложили основы нового направления в советской литературе - сельской «деловой» публицистики, пришедшей на смену «колхозной литературе», изображавшей деревню исключительно в радужных тонах. Отличительной чертой этого направления стала актуализация и открытое обсуждение проблем, связанных с колхозным строительством и партийным управлением деревней.Очерки Леонида Иванова, дипломированного экономиста и агронома-полевода, отличает глубокое знание сельской жизни: в его текстах статистические выкладки и экономические прогнозы приобретают особую художественную силу и выразительность. Очерки Тамары Саблиной решают ряд конкретных задач: тексты содержат не просто указания на причины негативных явлений в управлении сельским хозяйством, а предлагают конкретные способы их решения.
Короткий адрес: https://sciup.org/148317688
IDR: 148317688 | УДК: 821.092.1
Текст научной статьи Социально-экономические аспекты "деревенской прозы" (на материалах очерков Л. Иванова и Т. Саблиной)
Формирование единого литературно-критического пространства «деревенской прозы» началось с публикаций в 1952 году в «Новом мире» очерка В. Овечкина «Районные будни» и последовавшего за ним критического отклика В.Померанцева «Об искренности в литературе» (1953), признанного критиками одним из самых значительных документов периода оттепели.
Лакировка действительности, замалчивание истинного положения дел на селе — главным образом ставились в упрек послевоенной прозе конца 40-х — начала 50-х годов: «Жатве» (1950) Г.Николаевой; «Кавалеру Золотой Звезды» (1947–1948) С.Бабаевского; «Марье» (1946–1949) Г.Медынского; «От всего сердца» (1947–1948) Е.Мальцева. По этим признакам послевоенная проза получила название «бесконфликтной литературы».
Однако уже в 1950-е гг. развивается проблемно-публицистическая, «деловая» проза о деревне: В. Овечкин, А. Калинин, Е. Дорош, В. Тендряков, Г. Троеполь-ский и др., которая возвращала писателей-«деревенщиков» к традициям русского реализма XIX века. «Требованием народа — незамедлительно, сейчас же рассказать всю правду об истинном состоянии общества — и вызван небывалый рост малых оперативных жанров — публицистической статьи, очерка, рассказа» [11, с.165]. В этих условиях очерк превратился в самостоятельный жанр литературы.
Сходные процессы происходили и в сибирской литературе. Леонид Иванов, один из ведущих омских писателей, так определил главную тему своего творчества: «Тема моя деревня! До конца жизни», навсегда связав свое творчество с «сельским» очерком. С начала 1930-х, когда после окончания курсов экономистов в Москве уроженец Тверской (Калининской) области Л.Иванов только прибыл в Сибирь, в фокус его внимание попали перемены, происходившие на селе. Деревня, пострадавшая в войну не меньше города, возвращалась к мирной жизни. «А какие масштабы! Деревня так уж деревня! Поле так поле! Глазом не окинешь. И стада там более тучные, и тракторы гусеничные появились там намного раньше, и комбайны. И новых построек там возводилось неизмеримо больше…» [11, с.162] — писал он о сибирской деревне.
В должности корреспондента «Совхозной газете» и газете «Сельское хозяйство» Леонид Иванов рассказывал об «очковтирательстве» [2, с.7] на приемке злаковых, когда квитанции оформлялись на сдачу несуществующего зерна. Рассказать о махинациях с государственным добром с газетной полосы означало пойти на прямой конфликт с партийным руководством. На местах шла, по выражению Леонида Иванова, «борьба правды с кривдой» [2, с.20].
Непросто складывалась и судьба его первого очерка «Сибирские встречи», опубликованного в 1956 году в журнале «Сибирские огни». Спустя четверть века Л. Иванов вспоминал: «Под впечатлением очерков Валентина Овечкина, опубликованных в «Правде», я тоже решил написать очерк. Проблемы, затронутые Овечкиным, имели место и у нас в Сибири. Но обилие жизненного материала, при полном отсутствии опыта в очеркистке, привело к тому, что мой очерк, который я назвал «Сибирские встречи», занял 170 страниц машинописного текста. Писалось удивительно легко. Времени на очерк затратил не более десяти дней» [1, с.36]. Через год историю перспективно думающего председателя колхоза Соколова и работающего по старинке секретаря райкома Обухова принял к печати в «Новом мире» лично К. Симонов.
В предисловии к очерку секретарь Союза писателей Г.Марков похвалил сибирского писателя за образы «талантливых руководителей колхозной деревни, которые безбоязненно… сокрушают рутину и шаблон в организации сельского хозяйства» [3, с. 483]. С легкой руки Г. Маркова, за Леонидом Ивановым закрепилось амплуа «деревенского заступника».
С 1956 года Леонид Иванов выступает в центральных и местных изданиях по большей части как публицист и очеркист, отдавая предпочтение деловому «сельскому» очерку. В 1960 году опубликована «Глубокая борозда», продолжавшая тему и сюжет «Сибирских встреч», уже знакомые персонажи вели принципиальные хозяйственные споры.
«Персонажи Л. Иванова не имеют «точного адреса», но, как и при чтении очерков Овечкина, у читателя не возникает никаких сомнений не только в типичности их образов для современной деревни, но и в том, что каждая черта заимствована у прототипов, хорошо знакомых автору» [3, с. 485]. Лишь в 1966 г. выходит роман писателя «Сибирская новь», не вызвавший такого отклика и интереса у читателя, как публицистика писателя.
В 1970-х один за другим выходят его очерковые циклы: «Мартовские всходы» и «Хозяева» (1970), «Снова весна» (1971), «Новые ступени» (1973), «Край любимый» (1974) и др. В. Я. Канторович пишет: «Все они — о жизни деревни, о борьбе прогрессивного с отживавшим, о бесчисленных проблемах, требующих решения сегодня же» [3, с. 486]. Но в авторской манере происходят и некоторые изменения — к прежней «сухости» и объективности изложения добавляются нотки лиризма. Особенно это заметно в книгах — «На земле родной», «Молдинские были», «Край любимый», которые автор пишет о малой родине.
В том, что герои Л.Иванова говорили на языке профессионалов, с легкостью авторитетного агронома рассуждали о сроках сева, севообороте и селекции, была заслугой автора, в прошлом директора совхоза, дипломированного экономиста и агронома-полевода. «Однажды кто-то упрекнул его: «Вот вы пишете по агрономическим вопросам, а специального образования не имеете… Как же так? — вспоминает литературовед Н.Яновский. — Леонид Иванов упрек посчитал справедливым, засел за книги и экстерном сдал экзамены на звание агронома-полевода» [11, с. 162]. В его текстах статистические выкладки и экономические прогнозы приобретали особую художественную силу и выразительность. Писатель справедливо считал, что если всерьез помогать вести хозяйство, знать его надо профессионально.
Публицистика «овечкинской» школы (В. Тендярков, С. Крутилин, С. Залыгин, П. Ребрин и др.) вся сплошь «держалась на характерах» [5, с. 4]. Мартынов, Борзов, Опенкин, Масленников — «все это было не просто характеры, индивидуальности, но своего рода типы эпохи» [10, с. 258].
Такими были и герои Л. Иванова, наперекор официальной линии ЦК КПСС и лично Н. С. Хрущева, насаждавшего травосеяние и распространение кукурузы, рассуждали о низких надоях на колхозных фермах и спорных урожаях на целине (очерки «Свежая струя», «Доверие», «Дерзать!»). «Но стоило писателю усомниться в целесообразности расширения на сибирских полях посевов кукурузы, как областная газета публикует обширную статью с издевательским заголовком «Не зная броду — не суйся в воду», обвиняя автора в отсталости и ретроградстве» [4], — пишет о том времени В. Мурзаков. В 1963 г. журнал «Коммунист» обвинил Леонида Иванова в подтасовке фактов и фальсификации.
После очередных нападок за писателя заступился В. Овечкин: «За Вас я буду драться пока сам на ногах стою. В конце концов это не только за Вас, а вообще за право литератора мыслить» [3, с. 486]. В лучшую сторону ситуация изменилась только с начало 1970-х гг.
До этого авторы проблемных очерков нередко действовали втайне. Вспоминается приезд того же В. Овечкина на омскую целину осенью 1960-го года. «Омский очеркист-агроном Леонид Иванов обеспечил маршруты (совхозы Русской 68
Поляны, встреч с самостоятельными людьми), за мною была машина (собкора «Советской России») и гарантия тайны» [6, с. 9]. Та поездка по омскому Прииртышью стала для В.Овечкина знаковой: ведь вместо плодоносных целинных земель писатель увидел зону экологического бедствия — «сорняки на недавних ковылях потрясли Овечкина, барханы песка на молодой пашне, весь образ хозяйствования…» [6, с. 9]. Вместо нового стиля руководства сибирская целина встретила автора «Районных будней» приписками и ложными сводками с полей.
Ярким публицистом зарекомендовала себя и Тамара Леонидовна Саблина. Ее первые очерки приходятся на начало 1970-х гг. Приехавшая в Омск в 1959 г. после окончания Нижегородского (Горьковского) университета, корреспондент начала работу в газете Русско-Полянского района, выбранного, по признанию Тамары Саблиной, «за красивое название и целинную суть» [8, с. 8]. Молодого корреспондента прежде всего волновали практические вопросы местного хозяйствования. «Неужели не болит душа за то, что происходит на целине? За шесть лет со дня распашки только три с урожаем» [8, с. 10].
Именно по югу области пролегала центральная целинная страда омского Прииртышья, где «ширь неоглядная, пласт ковыльный от горизонта до горизонта» [8, с. 5]. Люди ехали в Сибирь со всех концов СССР — механизаторы, водители, колхозные руководители — с одной целью «накормить белым хлебом всю страну, оглодавшую за время войны и после» [8, с. 8].
О проблемах, с которыми «новые» хозяева земли сталкивались на целине, нельзя было молчать. Поэтому корреспондент Т.Саблина предпочитала откровенный разговор, считая, что только он поможет коренным переменам в общественном сознании. Так, книга очерков «Письма из сибирской степи» (1974) поднимала экологические проблемы целинной степи. В этом цикле привычная социально-аналитическая манера Саблиной приобрела отдельные натурфилософские черты: темы очерков указывали на нераздельность человека и природы, напоминали об истине, что успешным хозяином на земле становится лишь человек-творец.
Таким предстает энциклопедист-пчеловод, организатор школы пчеловодов в южном районе Омской области Франц Петрович Нейфельд (очерк «Медовый царь»), ведущий полемику секретарем райкома о перспективах пчеловодства. «Прав Нейфельд: для этого руководители всех рангов должно проникнуться сознанием, что пчеловодство, как проблема, носит не только экономический, но во многом социальный и нравственный характер» [7, с. 96]
Но очерк тем и отличался от других жанров, что не просто указывал на причины, а предлагал способы их решения. Поэтому планерка в тесном кабинете директора совхоза «Цветочный» Мечислава Николаевича Мусялова в очерке «Ода первопроходцам» происходит в присутствии корреспондента Т.Саблиной, ставшей на тот момент секретарем местной комсомольской организации. На обсуждении стояла проблема нового способа оплаты труда. Комсорг предлагает возобновить практику отрядов с оплатой за продукцию, а значит выступить против «наверченных» с колеса гектаров» [8, с. 5].
Диалог продвигается сложно. Хотя все в кабинете понимали, что «Привязать заработок механизатора не к гектару, а к центнеру — значит получить хозяина на земле» [8, с. 10]. Хорошо понимал это председатель, но у него были и опасения.
Предчувствие не обмануло руководителя: наступило «страшное лето 1961 года» — засуха и зной. Такой же была и весна 1967 года — «к извечной беде целины — засухе, прибавилась еще одна, горше первой: пыльные бури» [8, с.15], которые могли бушевать неделями.
Только через семь лет снова оказалась Тамара Саблина, уже корреспондент областного издания «Омская правда», в кабинете председателя Мусялова, в том самом «Цветочном». Каково же было удивление, когда она узнала, что, несмотря на все тяготы (природные и человеческие) дело комсорга Саблиной живет: к посевной в совхозе сбивают новые безнарядные звенья.
«Интересно, что тогда они упорно называли себя отрядами. Как отряды геологов, ищущих богатства в земле. Как отряды космонавтов, ведущие поиск вне земли. Эти вели поиск на земле: какой максимум может дать гектар, если обращаться с ним по-хозяйски» [8, с.19]. Имя той земле была «Планета целина», по названию одноименной песни.
В 1980-х в Омском издательстве вышли новые книги ее очерков «Кодекс делового человека» (1982), о становлении одного из самых крупных производств Омского региона — первой фирмы-предприятия «Омский бекон» и совхоза «Лу-зинский», «Встречи через годы» (1984) и «Угол атаки» (1988) центральной темой которых по-прежнему оставался человек-руководитель, человек-созидатель, человек-хозяин. «Как много значит, когда этот пост (авт.: сельского руководителя) занимает человек справедливый, волевой, бескорыстный, любящий свое дело и людей, и как много вреда может принести тот, у кого властолюбие, самомнение преобладают над всеми другими качествами характера» [9, с.2], — написано в предисловии к циклу «Угол атаки».
Став продолжателем дела В.Овечкина, В.Тендрякова, С.Залыгина и др., авторы, для которых Сибирь стала «второй родиной», написали сотни очерков, создали галерею ярких образов, руководителей совхозов, механизаторов и академиков, которых сибирская пашня вместе «заставила искать пути спасения» [8, с.21].
Многим позже «целинной эпопеи» на встрече с молодыми журналистами Леонид Иванов признался, что жанр очерка прекрасен тем, что «ты в числе первых можешь ринуться на поддержку нового, передового, на устранение промахов и недостатков, можешь испытать радость победы, сознание своей общественной полезности, нужности общему делу» [6].
В эпиграфе к книге очерков «Сосны Русской Поляны» (2016), посвященной 300-летию Омска, давно живущая в Москве Тамара Саблина написала: «Желаю вам вернуть былую славу родной земли и собственную гордость за нее. Пусть преумножатся для такого свершения ваши духовные и душевные силы!» [8, с.3]. В этом пожелании вся сила, вся мощь людей, составляющих деятельный актив нации.
Список литературы Социально-экономические аспекты "деревенской прозы" (на материалах очерков Л. Иванова и Т. Саблиной)
- Иванов Л. И. Повесть о моем времени. Омск: Омск. кн. изд-во, 1988. 256 с.
- Иванов Л. И. Притягательная сила: Очерки. М.: Современник, 1989. 381 с.
- Канторович В. Я. Заметки писателя о современном очерке. М.: Советский писатель, 1973. 544 с.
- Мурзаков В.Н. Верность своему времени // Союз писателей России. Издательство «Российский писатель» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rospisatel.ru (дата обращения: 29.05.2018).
- Овечкин В. В. Два костра. Вступ. статья Г. Радова. М.: Советская Россия, 1973. 80 с.
- Овечкин В. В. Собрание сочинений: в 3-х т. Т. 1. Рассказы и очерки. Вступ. статья Ю. Черниченко. М.: Художественная литература, 1989. 464 с.
- Саблина Т. Л. Письма из сибирской степи. Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1974. 128 с.
- Саблина Т. Л. Сосны Русской Поляны. Омск: Компаньон, 2016. 128 с.
- Саблина Т. Л. Угол атаки. Омск: кн. изд-во, 1988. 232 с.
- Теракопян Л. А. Пафос преобразования. Тема деревни в прозе 50-70-х годов, М.: Художественная литература, 1978. 397с.
- Яновский Н. Глубокая борозда // Сибирские огни. 1970. №7. С. 161-172.