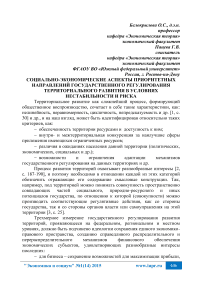Социально-экономические аспекты приоритетных направлений государственного регулирования территориального развития в условиях нестабильности и риска
Автор: Белокрылова О.С., Пацева Г.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 1-2 (14), 2015 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140110847
IDR: 140110847
Текст статьи Социально-экономические аспекты приоритетных направлений государственного регулирования территориального развития в условиях нестабильности и риска
Территориальное развитие как сложнейший процесс, формирующий общественное воспроизводство, сочетает в себе такие характеристики, как: нелинейность, неравномерность, цикличность, непредсказуемость и др. [1, с. 30] и др., и на наш взгляд, может быть идентифицирован относительно таких критериев, как:
-
- обеспеченность территории ресурсами и доступность к ним;
-
- внутри- и межтерриториальная конкуренция за наилучшие сферы приложения имеющихся ограниченных ресурсов;
-
- различия в ожиданиях населения данной территории (политических, экономических, социальных и др.);
-
- возможности и ограничения адаптации механизмов
государственного регулирования на данных территориях и др.
Процесс развития территорий охватывает разнообразные интересы [2, с. 187-190], и поэтому необходимо в отношении каждой из этих категорий обозначить отражающие его содержание смысловые конструкции. Так, например, под территорией можно понимать совокупность пространственно совпадающих частей социального, природно-ресурсного и иных потенциалов государства, по отношению к которой (совокупности) можно производить соответствующие регулятивные действия, как со стороны государства, так и со стороны органов власти или самоуправления на этой территории [3, с. 25].
Трехмерное измерение государственного регулирования развития территорий, проявляющееся на федеральном, региональном и местном уровнях, должно быть подчинено идеологии сохранения единого экономикоправового пространства, созданию справедливого распределительного и перераспределительного механизмов финансового обеспечения экономических субъектов, удовлетворяющих разнообразные интересы последних:
-
- для бизнеса – сохранение возможностей для максимизации прибыли,
роста стоимости компаний, завоевания новых рынков сбыта, создания продукции ожидаемого качества для потребителей;
-
- для домашних хозяйств – установление соответственно современным реалиям стандартов качества и уровня жизни;
-
- для государства – своевременное пополнение бюджета, переход на траекторию устойчивого развития, удвоение ВВП и т.п.
Необходимостью обеспечения вышеперечисленных групп интересов как основы создания устойчиво функционирующих сбалансированных региональных систем продиктована генеральная цель государственного регулирования территориального развития. При этом функциональное назначение данного типа регулирования состоит в следующем [4, с. 103]:
-
- стимулирование развития территорий вне зависимости от их потенциальных возможностей;
-
- создание эффективных механизмов, обеспечивающих социальную мобильность населения, в том числе и направленной миграции;
-
- обеспечение выполнения конкретными территориями
общегосударственных функций;
-
- формирование условий для возникновения и эффективного развития государственно значимых точек роста регионов посредством особых экономических зон, зон территориального развития, технопарков. Так, например, программно-целевые теории формирования территориальнопроизводственных комплексов (ТПК) в новых регионах (М. Бандман) на основе математического моделирования структуры, размещения и динамики ТПК, обосновывают возможность и эффективность активного организационно-экономического участия государства в их создании с помощью теоретико-методологического арсенала программно-целевого планирования и управления. Например, для Нижнего Приангарья на основе этой теории была разработана федеральная целевая программа использования природных ресурсов. Кроме этого, в современных условиях идеи полюсов роста находят практическое применение в создании свободных экономических зон, технополисов, технопарков.
-
- В научном сообществе все большую актуальность приобретает тезис о необходимости пересмотра концепции территориального развития России. Это объясняется тем, что в настоящее время все еще продолжается усиление поляризации регионального пространства в экономическом, социальном, политическом и др. аспектах (таблица 1). Среди причин такого положения дел можно обозначить:
-
- неравномерность обеспеченности природными ресурсами,
инфраструктурными объектами,
-
- значительные различия в природно-климатических условиях,
исторических и др. факторах развития.
Более того, на развитие территорий оказывает влияние так называемый лимитирующий фактор развития. Например, развитие нефте- и газодобывающих территорий, ориентированных на экспорт соответствующей продукции, задается геолого-географически, а промышленно ориентированных территорий – особенностями развития экономики страны в период индустриализации в 30-е годы прошлого столетия [5, с. 2].
Таблица 1 – Топ-10 субъектов РФ по социально-экономическому положению в 2013 г.
|
Мес то в рейт инге |
Интегральн ый рейтинг |
Масштаб экономики (производство товаров и услуг), млрд. руб. |
Эффективно сть экономики (производст во тов. и услуг на душу населения), тыс. руб. / чел. |
Бюджетная сфера (доходы консолидиров анного бюджета на душу населения), тыс. руб. / чел. |
Социальная сфера (отношение доходов населения к стоимости набора товаров и услуг) |
|
1 |
г. Москва (82,824) |
г. Москва (6799,92) |
Ненецкий АО (3856,28) |
Ненецкий АО (379,34) |
Ненецкий АО (4,26) |
|
2 |
г. Санкт-Петербург (75,323) |
Ханты-Мансийский АО (3321,96) |
ЯмалоНенецкий АО (2575,21) |
Чукотский АО (361,71) |
ЯмалоНенецкий АО (3,95) |
|
3 |
Ханты-Мансийский АО (70,383) |
г. Санкт-Петербург (3006,92) |
Ханты-Мансийский АО (2088,42) |
ЯмалоНенецкий АО (257,09) |
г. Москва (3,7) |
|
4 |
Московская область (68,337) |
Московская область (2390,94) |
Сахалинская область (1432,44) |
Сахалинская область (193,4) |
Тюменская область (2,95) |
|
5 |
Республика Татарстан (64,338) |
Республика Татарстан (2195,76) |
Чукотский АО (922,6) |
Камчатский край (182,83) |
г. Санкт-Петербург (2,93) |
|
6 |
Самарская область (62,26) |
Свердловская область (1830,59) |
Тюменская область (844,79) |
Магаданская область (182,32) |
Ханты-Мансийский АО (2,92) |
|
7 |
ЯмалоНенецкий АО (61,904) |
Краснодарский край (1615,2) |
Магаданская область (670,17) |
Республика Саха (Якутия) (161,06) |
Свердловска я область (2,9) |
|
8 |
Свердловска я область (60, 257) |
Республика Башкортостан (1574,24) |
Республика Коми (640,81) |
г. Москва (123,41) |
Республика Татарстан (2,84) |
|
9 |
Тюменская область (58,927) |
Ямало-Ненецкий АО (1392,26) |
г. Санкт-Петербург (591,92) |
Ханты-Мансийский АО (121,87) |
Сахалинская область (2,79) |
|
10 |
Пермский край |
Самарская область |
Республика Саха |
Амурская область |
Московская область |
|
(58,565) |
(1375,44) |
(Якутия) (585,11) |
(93,01) |
(2,78) |
Чрезвычайно важно консолидировать усилия научного сообщества, государства, хозяйствующих субъектов и населения в идентификации стратегических направлений социально-экономического развития России. Более того, необходимо проводить оценку регулирующего воздействия на территориальное развитие со стороны государства [6], особенно в условиях, характеризующихся нарастанием неопределенности и риска.
В настоящее время довольно обширное количество исследований посвящено переосмыслению особенностей проявления финансовоэкономического кризиса на различных уровнях - от общегосударственного до индивидуального. При этом делается множество попыток идентифицировать драйверы роста экономики, в числе которых называются малый и средний бизнес [7], инновационные технологии, развитие инфраструктурных проектов, государственный оборонный заказ, человеческий капитал и человеческий потенциал, «зеленая экономика» и т.п. Безусловно, на современном этапе развития нельзя не отметить усиление глобальных сетей и ресурсов, но, тем не менее, доля региональной экономики с ее ресурсным потенциалом довольно высока в воспроизводственном процессе, и достигает 50% ВРП.
Кроме этого, произошедший в 90-е годы 20 века в России трансформационный спад, кризисные 1998г. и 2008-2009 гг., а также современный период дефицита ресурсов развития, обусловленный, в том числе структурными экономическими дисбалансами, подтверждают тезис о том, что антикризисный потенциал региональных экономик может быть усилен за счет роста капитализации генерируемых ими ресурсами (трудовых, инвестиционных и др.).
В данном случае речь идет о необходимости создания полноценной финансовой рыночной инфраструктуры региона, а также современных механизмов капитализации его ресурсов как одной из эффективных стратегий модернизации экономики России [8, с. 8]. Тем более, что динамика существующего в настоящее время технологического уклада свидетельствует о том, что он близок к пределам своего роста, что требует формирования экономики, способной генерировать продуктовые, технологические, организационные, социальные и институциональные инновации в соответствии с ресурсными возможностями экономики региона [9, с. 77], а также межотраслевой и межрегиональной кооперации, реализуемой в создаваемых региональных кластерах и зонах территориального развития.
Одним из доводов в пользу кластеризации региона выступают следующие эффекты для территории, на которой происходит культивирование кластеров инноваций: генерирование финансовых и инвестиционных ресурсов, обеспечение конкурентных преимуществ за счет центрального позиционирования в региональном пространстве, а также ускорение перехода на устойчивый вектор развития с соответствующим качеством социально-экономической динамики.
Однако, на наш взгляд, в современных реалиях, когда наблюдается турбулентность в развитии экономики [10, с. 24], происходит усиление внешних и внутренних ограничителей ее роста, что значительно затрудняет намеченный процесс модернизации ввиду наличия следующих причин:
-
- высокоскоростное перемещение финансового капитала, сопровождающееся динамикой рабочей силы, ресурсов и т.д.;
-
- разрастание ресурсообусловленных военных конфликтов, и как следствие - усиление ресурсной ограниченности развития;
-
- социально-экономические и климатические изменения, происходящие на фоне глобализации экономического пространства.
Как известно, необратимые изменения, которые произошли в глобальном экономическом пространстве, заложили фундамент «новой реальности», графическое описание которой теперь невозможно описать только с помощью синусоиды [11]. Более того, в научном и деловом сообществе нет единого мнения относительно природы современной кризисной ситуации в России. Так, например, по мнению Нобелевского лауреата по экономике К. Писсаридеса, в России происходит развертывание нового типа кризиса, который необходимо изучать [12]. Согласно позиции Председателя Правительства РФ Д. Медведева, Россия в настоящее время находится в точке пересечения нескольких кризисов, имеющих следующую природу: остаточные явления кризиса 2008 года, внешнеэкономическое и политическое санкционное давление на страну, а также реализация модели экономического развития за счет высоких цен на энергетические и сырьевые ресурсы [13], о чем свидетельствует замедление темпов ВВП в 2014 году по сравнению с 2013 годом (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика ВВП и ИПЦ в России за 1995-2014 гг.
|
№ п/п |
Год |
Размер ВВП в текущих ценах, млрд. руб., до 1998 г. - трлн. руб. |
ИПЦ на товары и услуги на конец периода, % |
№ п/п |
Год |
Размер ВВП в текущих ценах, млрд. руб., до 1998 г. - трлн. руб. |
ИПЦ на товары и услуги на конец периода, % |
|
1 |
1995 |
1428,5 |
231,3 |
11 |
2005 |
21609,8 |
110,9 |
|
2 |
1996 |
2007,8 |
121,8 |
12 |
2006 |
26917,2 |
109,0 |
|
3 |
1997 |
2342,5 |
111,0 |
13 |
2007 |
33247,5 |
111,9 |
|
4 |
1998 |
2629,6 |
184,4 |
14 |
2008 |
41276,8 |
113,3 |
|
5 |
1999 |
4823,2 |
136,5 |
15 |
2009 |
38807,2 |
108,8 |
|
6 |
2000 |
7305,6 |
120,2 |
16 |
2010 |
46308,5 |
108,8 |
|
7 |
2001 |
8943,6 |
118,6 |
17 |
2011 |
55967,2 |
106,1 |
|
8 |
2002 |
10830,5 |
115,1 |
18 |
2012 |
62147,0 |
106,6 |
|
9 |
2003 |
13208,2 |
112,0 |
19 |
2013 |
66193,7 |
106,5 |
|
10 |
2004 |
17027,2 |
111,7 |
20 |
2014 |
70975,8 |
111,4 |
Поэтому крайне важно понять, как с учетом стратегических ориентиров структурно сбалансировать экономику, сделать ее самодостаточной с точки зрения создания эффективных рабочих мест, собственных производственно-технологических цепочек, обеспечивающих замкнутый цикл производства, а также восприимчивой к различным инновациям, с одной стороны требующих инвестиционных ресурсов, а с другой – выступающих условием для самого инновационного развития.
Оценка реального уровня производственной зависимости от импорта и его динамики, характеризующихся кумулятивным характером ценообразования, позволяет выявить перспективы российских производителей в условиях нарастания системных ограничений развития, и особенно - ослабления национальной валюты. Согласно Березинской О. и Ведеву А., производственная зависимость экономики России лишь частично обусловлена вовлеченностью в мировые производственные и торговые цепочки создания стоимости, а первопричины кроются в:
-
1. Низкой инвестиционной активности.
-
2. Сворачивании проектов, способных модернизировать экономику. Это свидетельствует об инвестиционной стагнации в ЮФО, заявленных в качестве приоритетных. Еще одним подтверждением существования данных причин можно считать выбывание инвестиционных проектов в энергетике ЮФО из числа объектов альтернативной генерации, например, «свернули» строительство совместно с чешской компанией Falcon Capital комплекса ветряных энергетических установок мощностью по 50 МВт в сутки каждая в Приютенском районе Калмыкии (стоимость проекта 11, 2 млрд. рублей), а также строительство ветропарка в районе Ейска мощностью до 100–200 мВт (до 80 турбин) с суммой заявленных инвестиций 6 млрд. рублей [14].
-
3. В дисбалансе рыночных пропорций между спросом и предложением;
-
4. В технологической отсталости российских производственных цепочек.
Поэтому можно сделать вывод, что ослабить эту зависимость можно посредством радикальной активизации инвестиционной и предпринимательской составляющих российской экономики [15, с. 10]. Все это находит реализацию в так называемом стратегическом импортозамещении – процессе последовательного вытеснения на более низкие производственные уровни импортных сырья, материалов, покупных изделий. Снижение производственной зависимости российской экономики от импорта, обеспечивает следующие эффекты [16, с. 114-115]:
-
- способствует дальнейшей модернизации производства даже в
условиях высоких ограничений в отношении финансовых ресурсов;
-
- увеличивает добавленную стоимость, создаваемую в российской экономике;
-
- смягчает воздействие колебаний валютного курса на производственно-финансовые показатели предприятий;
-
- сокращает разрыв между производителями продукции конечного спроса, находящимися на достаточно высоком технологическом уровне, и российскими сырьевыми производствами, обладающими современными технологиями;
-
- создает основу роста российского несырьевого экспорта;
-
- в большей степени вовлекает российские сырьевые производства во внутрироссийские производственные цепочки;
-
- повышает внутреннюю стабильность российской экономики и обеспечивает устойчивость ее роста.
Список литературы Социально-экономические аспекты приоритетных направлений государственного регулирования территориального развития в условиях нестабильности и риска
- Реймер Л.А. Территориальное развитие как форма согласования экономических интересов и социальных ожиданий//Труды ИСА РАН. -2008. -Т. 40. -С. 30-47.
- Потанин М.М. Несовершенные рынки, новая экономическая география и Пространственная экономика//Пространственная экономика. 2013. №1. С. 187-190.
- Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы: Теория и практика государственного регулирования территориального развития. -М.: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2009. С. 25.
- Меньщикова В. И., Аксенова М. А. Формирование поляризованного пространства как одно из направлений государственного регулирования территориального развития//Социально-экономические явления и процессы. 2012. №1. . URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-polyarizovannogo-prostranstva-kak-odno-iz-napravleniy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-territorialnogo-razvitiya#ixzz3NDN3hAj1
- Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ: итоги 2013 года. -М., 2014.
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 марта 2014 г. № 159 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» . URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70550104/#ixzz3NEJabJGw.
- Мантуров Д. Средний бизнес -драйвер роста экономики. 27 сентября//Доступно на: http://www.vestifinance.ru/videos/11988
- Овчинников В.Н., Кетова Н.П. Маркетинговые стратегии и инструментарий капитализации ресурсов периферийных регионов//ТЕRRА ECONOMICUS. 2013. Том 11. № 3. Часть 2. С. 8
- Дудка В.Д. Целевой рост экономико-технологической системы региона в условиях нестабильности//Вопросы экономики. 2011. № 36 (468). С. 77.
- Журавлева Г.П., Манохина Н.В., Новые правила игры в условиях экономической турбулентности//Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2013. №5 (49). С. 24.
- Каслионе Дж., Котлер Ф. Chaotics: искусство управления и маркетинга в эпоху турбулентности//http://performance.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Chaotics.pdf
- Астапкович В. Нобелевский лауреат: Экономическая ситуация в РФ -новый тип кризиса//http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800117788.html
- Медведев: Россия находится на пересечении нескольких кризисов//http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800072801.html
- Кисин С. Олимпиады оказалось мало//Эксперт Юг http://expertsouth.ru/projects/krupneishie-investicionnye-proekty-yufo/olimpiady-okazalos-malo.html
- Березинская О., Ведев А. Инвестиционный процесс в российской экономике: потенциал и направления активизации//Вопросы экономики. 2014. №4. С. 10.
- Березинская О., Ведев А. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамещения//Вопросы экономики. 2015. №1. С. 114-115.