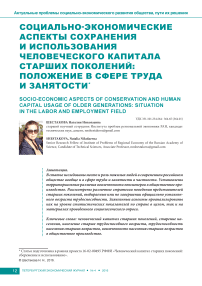Социально-экономические аспекты сохранения и использования человеческого капитала старших поколений: положение в сфере труда и занятости
Автор: Шестакова Наталия Николаевна
Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal
Рубрика: Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения
Статья в выпуске: 4 (16), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследованы место и роль пожилых людей в современном российском обществе вообще и в сфере труда и занятости в частности. Установлены территориальные различия вовлеченности пенсионеров в общественное про- изводство. Рассмотрены различные стратегии поведения представителей старших поколений, выбираемые ими по завершении официально уставлен- ного возраста трудоспособности. Заявленные аспекты проанализированы как на уровне статистических показателей по стране в целом, так и на материалах проведенного социологического опроса.
Человеческий капитал старших поколений, старение населения, население старше трудоспособного возраста, трудоспособность населения старших возрастов, вовлеченность населения старших возрастов в общественное производство
Короткий адрес: https://sciup.org/140129099
IDR: 140129099
Текст научной статьи Социально-экономические аспекты сохранения и использования человеческого капитала старших поколений: положение в сфере труда и занятости
Происходящее в развитых и большинстве развивающихся государств в последние десятилетия перераспределение возрастного состава и структуры населения в пользу лиц старших возрастных групп, а также значительное продление посттрудового периода их жизни обостряют проблему определения места и роли пожилых людей в современном обществе. Актуальной является такая постановка вопроса и для Российской Федерации: численность пожилых (60 лет и старше) составляет сегодня 29 млн человек и по прогнозам продолжит увеличиваться, достигнув к 2021 г. 39,5 млн человек, или более четверти (26,7%) всего населения страны.
Согласно национальному законодательству, возраст наступления нетрудоспособности (что, по сути, равнозначно фактической констатации старости) и, соответственно, назначения пособия/пенсии по старости в нашей стране наступает в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. «Сегодня увеличение продолжительности жизни людей означает только одно – продление срока их пассивного существования на пенсии, в положении людей, исключённых из полноценной и равноправной с другими возрастными категориями жизни, в роли пациентов соответствующих учреждений», – отмечает, например, заместитель главного редактора журнала «Финансы» Ю. А. Беляев [1, с. 11].
Однако далеко не все жители России выбирают предлагаемый государством путь смены социального статуса и отказ от участия в общественном производстве. Причины подобного поведения наших соотечественников неоднократно исследовались и сегодня уже принципиально установлены. Это: низкий уровень пенсионного обеспечения, желание приносить пользу обществу и желание находиться в коллективе. В то же время после завершения трудовой карьеры и наступления пенсионного возраста зачастую отмечается большее или меньшее снижение востребованности лиц старших возрастов, их постепенная эксклюзия из жизни общества. Очевидно, что не все представители старших возрастов соглашаются с подобными перспективами. Многие из них при наступлении пенсионного возраста выбирают альтернативные стратегии.
Вообще исследователи выделяют три основные поведенческие стратегии россиян пенсионного возраста: продолжение допенсионного образа жизни с сохранением установок активного трудоспособного возраста; доживание, сопровождающееся спадом активности во всех сферах жизни, общим падением интереса к жизни; переориентация на социальную и личностную реализацию в новых сферах жизни [2].
Распределение лиц старших возрастов по обозначенным категориям можно почерпнуть, например, из результатов опроса ВЦИОМ (ноябрь 2015 г.)1. Согласно полученным данным, более трети (37%) опрошенных, не находящихся на пенсии в момент обследования, на вопрос: «Собираетесь ли Вы работать после выхода на пенсию?» определенно ответили – «да, буду» (в 1990 г. – 15%). Еще 37% допустили для себя такую возможность при наличии «конкретных обстоятельств» (в 1990 г. – 54%). В целом же динамика так и или иначе ориентированных на продолжение трудовой деятельности по окончании официально установленного трудоспособного возраста составила за 1990-2015 гг. +8% (1990 г. – 69%, 2015 г. – 74%). Твердо отказались от такого намерения 11% (в 1990 г. – 13%).
Аналогичную тенденцию, правда, несколько другого порядка, демонстрируют и результаты майского (2016 г.) опроса исследовательского холдинга «Ромир» [4]: каждые трое из пяти (62%) респондентов не собираются прерывать трудовую деятельность по достижении пенсионного возраста. При этом за два года показатель вырос на девять процентных пунктов (в 2013 г. – 53%). То есть динамика доли тех, кто предпочитает оставаться вовлеченным в общественное производство, также имеет выраженную положительную направленность. Противоположную стратегию предпочли, соответственно, 38% опрошенных.
Таким образом, можно сделать вывод, что в любом случае от 2/3 до 3/4 потенциальных пенсионеров не планируют прерывать свою трудовую активность после достижения пенсионного возраста.
Сопоставим намерения, обозначенные еще находящимися в трудоспособном возрасте работниками, с фактическим положением пенсионеров в сфере занятости. Доступ к этой информации легко получить из официальных данных Госкомстата (таблица 1).
Из сведений, представленных в таблице 1, видно, что средний по Российской Федерации уровень занятости среди населения в возрасте старше пенсионного не достигает третьей его части (29,4%), хотя в двух федеральных округах – Северо-Западном и Дальневосточном он все-таки преодолевает отметку «1/3»: соответственно 33,8 и 35,8%. Происходит это за счет наличия в них значительного – в сравнении с другими округами – числа регионов с высокой занятостью пенсионеров. Отметим, что предельно высок этот показатель в Чукотском АО (66,4%), Магаданской области (55,1%) (к которым примыкает Чеченская Республика, 56,0%, из Северо-Кавказского округа), значительно превышает средний и уровень занятости пенсионеров в Камчатском крае (41,3%), Республике Саха (Якутия) (41,2%) и Санкт-Петербурге (40,0%). Однако только относительно Чукотского автономного округа можно сказать, что там в сферу занятости вовлечены практически все желающие пенсионеры2.
Несколько иную картину по стране в целом рисуют данные Пенсионного фонда РФ о занятости пенсионеров (таблица 2)
Согласно данным таблицы 2, при общей устойчивой повышательной тенденции в том же 2014 г. Пенсионным фондом РФ зафиксировано несколько больше (нежели по сведениям Госкомстата), 34,9%, пенсионеров (от общей их численности), занятых в общественном производстве.
В любом случае можно сделать логический вывод относительно существенного (примерно двукратного) расхождения между декларируемыми намерениями и пожеланиями российского населения по поводу продолжения трудовой деятельности по достижении пенсионного возраста (62–74% по разным источникам) и официально зафиксированной их занятостью (29,4–34,9% по различным данным).
Попробуем проанализировать сложившуюся ситуацию.
Таблица 1
Показатели, характеризующие занятость населения в возрасте старше трудоспособного1), по федеральным округам и некоторым входящим в их состав субъектам Российской Федерации, имеющим минимальный и максимальный уровни показателей в 2014 г.
|
Регион |
Уровень занятости, в % |
Среднее время поиска работы, мес. |
|
Российская Федерация |
29,4 |
8,1 |
|
Центральный федеральный округ |
31,5 |
7,4 |
|
Московская область – max |
36,8 |
7,3 |
|
Смоленская область – max |
35,3 |
7,0 |
|
Тамбовская область – min |
21,4 |
10,3 |
|
Северо-Западный федеральный округ |
33,8 |
7,7 |
|
Калининградская область – max |
38,9 |
9,0 |
|
Мурманская область – max |
36,9 |
8,9 |
|
Санкт-Петербург – max |
40,0 |
6,8 |
|
Южный федеральный округ |
25,9 |
9,0 |
|
Республика Адыгея (Адыгея) – min |
20,5 |
11,9 |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
31,8 |
8,8 |
|
Чеченская Республика – max |
56,0 |
5,8 |
|
Приволжский федеральный округ |
25,9 |
7,6 |
|
Республика Башкортостан – min |
21,5 |
6,8 |
|
Пермский край – min |
20,6 |
9,6 |
|
Уральский федеральный округ |
28,7 |
7,2 |
|
Сибирский федеральный округ |
27,6 |
8,8 |
|
Дальневосточный федеральный округ |
35,8 |
9,3 |
|
Республика Саха (Якутия) – max |
41,2 |
7,0 |
|
Камчатский край – max |
41,3 |
8,3 |
|
Магаданская область – max |
55,1 |
8,5 |
|
Сахалинская область – max |
38,1 |
9,3 |
|
Чукотский автономный округ – max |
66,4 |
7,0 |
Составлено на основе: [5].
Таблица 2
Удельный вес работающих пенсионеров в процентах к численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
22,4 |
24,5 |
26,5 |
28,4 |
30,0 |
31,2 |
31,2 |
32,4 |
33,7 |
34,9 |
Источник: [6, с. 16]– на основе данных Росстата.
Для изучения места и роли населения старших возрастов в обществе вообще и сфере труда и занятости в частности в рамках проекта 16-02-00495 РГНФ «Человеческий капитал старших поколений: сбережение и использование» в мае-июле 2016 г. (в Санкт-Петербурге) был организован и проведен экспертный опрос. Использован метод полу-формализованного интервью. При выборе экспертов (всего 44 человека) был сделан упор на самих представителей старшего поколения, имеющих достаточно высокий образовательный ценз, интеллектуальный уровень и преимущественно относящихся к категории «the Old Old» (или старых пожилых), еще продолжающих трудиться. Такой подход преследовал цели расширения поля проводимых в отношении этой группы населения исследований.
Обратимся к тем полученным нами результатам, которые характеризуют положение старших поколений в сфере труда и занятости.
Как показали результаты опроса, оценки восприятия населения старших возрастов в обществе и сфере труда самими пожилыми некоторым образом различаются. Более того, по мнению опрошенных, оно оказывается несколько различным на уровне (абстрактного) российского общества и на уровне (конкретного) трудового коллектива (таблица 3).
Данные таблицы 3 показывают, что чаще всего отношение общества к пожилым вообще опрошенные воспринимают «в безрадостных серых тонах»: практически двое из каждых пяти опрошенных (37,7%) описывают его как снисходительное. И это превалирующее мнение. Пятая часть опрошенных (22,6%)
Таблица 3
Сравнительное распределение ответов на вопросы «Как Вы можете оценить отношение к людям пожилого возраст а в современном российском обществе?», «Каково в современном российском обществе в целом отношение к работающим пенсионерам? » и «Каково, на Ваш взгляд, отношение к сотрудникам пенсионного возраста их коллег по работе на Вашем предприятии, в Вашем учреждении, организации?», %
|
Отношение к пенсионерам |
Как Вы можете оценить отношение к людям пожилого возраста в современном российском обществе? |
Каково в современном российском обществе в целом отношение к работающим пенсионерам? |
Каково, на Ваш взгляд, отношение к сотрудникам пенсионного возраста их коллег по работе на Вашем предприятии, в Вашем учреждении, организации? |
|
Равноправное, товарищеское |
7,5 |
37,0 |
48,0 |
|
Уважительное, почтительное |
22,6 |
16,7 |
28,0 |
|
Снисходительное |
37,7 |
27,8 |
8,0 |
|
Пренебрежительное |
17,0 |
11,1 |
6,0 |
|
Иное |
15,1 |
7,4 |
2,0 |
|
В разных вопросах по-разному* |
х |
х |
8,0 |
|
Итого |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
* Вариант ответа «В разных вопросах по-разному» предлагался только в последнем из приведенных в таблице вопросов.
полагает, что в современном российском обществе к пожилым людям относятся сообразно их возрастному статусу и традиционным межпоколенным нормам: уважительно и почтительно. Достаточно высока доля тех, кто выбрал ответ «пренебрежительно»: это каждый пятый-шестой (17,0%) эксперт. При этом, по мнению респондентов, равноправными членами общества пожилых считают лишь в 7,5% случаев. Такова точка зрения экспертов относительно самого «верхнего» уровня восприятия пожилых – уровня общества. Обратим внимание, что опрошенными было предложено несколько дополнений к заданному перечню вариантов ответов, причем ни один из них не носил оптимистической коннотации: « недостаточно внимательное», «равнодушное», «отношение меняется по выгоде: если нужно повысить рейтинг государства, то вспоминают пожилых людей, потом опять все забывается » и т. п.
Если же мы ограничим категорию «пожилой вообще» и обратимся к оценке той части пенсионеров , которые заняты в общественном производстве , то картина существенным образом изменится: преобладающим станет уже вариант ответа «равноправное, товарищеское» отношение, на него пришлось почти 2/5 (37,0%) ответов. Однако снисходительность, (вынужденная) терпимость и здесь занимает второе по значимости место – более четверти (27,8%) респондентов предпочли именно такой вариант ответа. Отметим, что на треть (по сравнению с оценкой более широкой категории «пожилой») меньшим оказалось число экспертов, описывающих отношение к работающим пенсионерам как «пренебрежительное» (11,1%). Хотя, несомненно, важны и комментарии участников опроса, связывающие характеристики отношения « со срезом общества », определяемым « уровнем общей культуры, воспитания, образования и т. д. ».
Если же мы (еще) сожмем категорию «работающий пенсионер» до понятия «коллега пенсионного возраста» и переместимся на уровень конкретного предприятия, организации, учреждения, то заметим, что 3/4 (76,0%) полученных ответов оказываются сгруппированными в двух сугубо позитивных номи- нациях: почти половина (48,0%) экспертов оценили отношение к ним как «равноправное, товарищеское» и более четверти (28,0%) как «уважительное, почтительное». В негативный спектр оценок («снисходительное» и «пренебрежительное») попали лишь 14% ответов экспертов.
Таким образом, можно наблюдать реальное смещение оценок по мере понижения уровня оценивания от отвлеченного «общества в целом» и приближения к реальным ситуациям, конкретным людям. Соответственно, можно говорить о существовании в сознании, по крайней мере старшего поколения, разрыва между восприятием конкретного человека и общества как некой абстрактной совокупности людей1. И ставить вопрос о целесообразности преодоления этого разрыва путем коррекции восприятия: экстраполяции позитивного на индивидуальном уровне образа человека старшего поколения на уровень общества. Хотя, безусловно, этот вывод может быть обозначен как предварительный и нуждающийся в детальном изучении специалистами из сферы психологии.
В ходе опроса также удалось установить, что практически половина работающих лиц пожилого возраста занята в сферах образования и науки (32,0% + 16,5% = 48,5%), а также услуг (19,4%) и культуры (11,7%). В то же время среди друзей, знакомых, родственников опрошенных оказались пенсионеры, занятые в области информационно-коммуникационных технологий и имеющие собственное дело.
В принципе полученные нами данные в известной степени корреспондируются с результатами других исследований. Например, А. Я. Бурдяк и Е. Е. Гришина отмечают: «Результаты анализа проведенных экспертных интервью с работодателями показали, что положение возрастных работников на рынке труда существенно различается между сферами. Если в образовании и здравоохранении, а также для ряда промышленных предприятий типична ситуация с продолжением работы специалистов после выхода на пенсию, то в торговле и финансовой сфере это редкость. Именно в образовании, здравоохранении и в отдельных направлениях промышленности ощущается наиболее серьезная нехватка молодых кадров и кадров среднего возраста» [7].
Для того, чтобы получить некие представления об экономической стороне труда занятых в общественном производстве пожилых работников, экспертам был задан вопрос: «Как Вы можете в целом оценить эффективность и результативность труда своих пожилых коллег?» Примечательно, что все участники опроса назвали результаты труда пожилых коллег находящимися «на среднем уровне, нормальными». Однако отдельные участники отметили важность дифференциации суждений в зависимости « от профессиональных и личностных качеств», характера выполняемой работы и сферы деятельности (« где требуется быстрота, оперативность, внимательность, то коллеги 60-70 лет только тормозят работу, приходится исправлять ошибки; по житейским вопросам, наоборот, можно узнать что-то интересное »; « есть сферы, где может быть сбой »); и даже от занимаемого статуса (« зависит от статуса »).
По мнению 3/4 (75,0%) сам и х пожилых экспертов, труд работников старших возрастов может использоваться в любой сфере: «в любой сфере деятельности можно найти ниши для представителей старших поколений». Более четверти (27,3%) из них полагают, что самыми подходящими для старших возрастов являются сферы воспитания/наставничества, образования и культуры. Еще один из шести (15,9%) считает, что это может быть любой интеллектуальный труд, и один из семи (13,6%) опрошенных – что это может быть офисный (не физический) труд в любой области. Были внесены и дополнения: «малый бизнес, консалтинг», «наставник/консультант/эксперт».
Только 6,8% респондентов сочли возможным использовать труд пожилых в сферах, связанных с посильным (не тяжелым) физическим трудом. Возможно, полученное распределение ответов можно связать с характером предыдущей деятельности опрошенных: прак- тически все они являются представителями интеллектуального труда. Важно отметить, что ни один из экспертов не выбрал ответ: «Нет, я таких сфер назвать не могу», а также не затруднился с ответом. То есть абсолютно все эксперты рассматривают сам факт возможного продолжения трудовой деятельности и соотносят его с какой-либо из областей.
Ориентированность пожилых на выполнение обучающих, воспитательных, сопровождающих, проверочно-контрольных функций нашла свое подтверждение и при ответах вопрос: «В каком направлении можно реализовать имеющийся у пожилых людей потенциал?» Так, более половины, 56%, опрошенных видят в качестве такого направления именно работу консультанта, эксперта, наставника.
Остановимся еще на двух вопросах, касающихся трудоустройства лиц старших возрастов. Первый из них звучал так: «Если бы Вы (как пожилой человек) независимо от Вашего места работы и статуса, лишились работы, смогли бы вновь трудоустроиться?» Распределение ответов на него приведено в таблице 4.
Как видно из данных таблицы 4, пенсионеры в целом оказались б о льшими оптимистами, чем можно было ожидать: семеро из каждых 10 опрошенных (71,3%) с той или иной степенью уверенности рассуждают о возможностях трудоустройства в пенсионном возрасте. А если соотнести полученные результаты этого с официальными данными о фактической занятости пенсионеров в Санкт-Петербурге (40,0%, 2014 г.), то оптимизм граждан старших возрастов становится еще более удивительным. Ведь только 17,4% усомнились в своих перспективах относительно нахождения новой работы либо отказались бы от продолжения трудовой деятельности.
Интересны и предпочтительные варианты потенциального трудоустройства лиц старших возрастных групп (таблица 5).
Как видно из таблицы 5, 3/4 (75,0%) полученных ответов (сумма вариантов (выбрал бы) «работу того же профиля, профессии, специальности» и (выбрал бы) «аналогичную работу, но с неполной занятостью») указывают на тяготение пожилых к известному, выполнявшемуся ими ранее виду профессио-
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вы (как пожилой человек) независимо от Вашего места работы и статуса, лишились работы, смогли бы вновь трудоустроиться?»
|
Ответ |
Процент от суммы ответов |
|
1. Да, наверняка |
13,0 |
|
2. Скорее всего, да |
28,3 |
|
3. Смог бы, но потребовались бы значительные усилия |
30,4 |
|
4. Вряд ли |
10,9 |
|
5. Решил бы не продолжать трудовую деятельность |
6,5 |
|
6. Трудно сказать |
10,9 |
|
Итого : |
100,0 |
Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вы решили трудоустроиться, то что бы Вы выбрали?»
|
Ответ |
Процент от суммы ответов |
|
|
1. |
Работу того же профиля, профессии, специальности |
40,4 |
|
2. |
Аналогичную работу, но с неполной занятостью |
34,6 |
|
3. |
Получил дополнительное образование и сменил профессию |
1,9 |
|
4. |
Изменил бы сферу деятельности |
11,5 |
|
5. |
Занялся бизнесом |
7,7 |
|
6. |
Иное |
3,8 |
|
Итого : |
100,0 |
|
нальной деятельности. И это вполне понятно (в силу наличия у них накопленных профессиональных знаний, навыков, умений, опыта, контактов и проч.). Как понятно и желание 1/3 (34,6%) из них сократить нагрузку. Намерение изменить сферу деятельности, предваряемое получением дополнительного образования (1,9%) или без оного (11,5%), выразил лишь каждый седьмой (13,4%) опрошенный. Еще 7,7% экспертов планируют заняться бизнесом. В категорию «иное» попал «крик души» редкого пессимиста: «работы нет никакой».
В рассматриваемом контексте важно – хотя бы коротко и конспективно – остановиться на зависимости между потребностью пожилых трудиться, возрастом и состоянием их здоровья. В принципе, наличие такой связи не вызывает сомнений. Тем не менее проиллюстрируем ее данными, полученными, например, в исследовании А. Я. Бурдяк и Е. Е. Гришиной: «Степень готовности работать естественным образом снижается с возрастом респондента, имеющего ограничения по здоровью. В младшем пенсионном возрасте, 60–69 лет, каждый четвертый незанятый респондент согласился бы работать на посильной ему должности, тогда как в переходном к пенсионному возрасте 50–59 лет каждый третий из незанятых инвалидов готов вернуться к работе, возможно, более простой, чем у него была до ухода на пенсию. <…> Не готовы идти даже на посильную для них работу <…> 57% из числа 50–59-летних и уже 72% когорты 60–69 лет. Самые пожилые люди с ограниче- ниями по здоровью понимают, что никакая работа им уже не под силу» [7]. Очевидно, что с этой реальностью нельзя не считаться.
Еще одним аспектом, который хотелось бы затронуть с точки зрения положения в сфере труда и занятости, является совокупность позиций, поименованных самими пожилыми в рамках вопроса: «Обозначьте, пожалуйста, основные проблемы населения старших возрастов в настоящее время (в сфере труда)». Отметим, что на этот вопрос дали ответ более половины, 59,1%, респондентов. Большая часть выявленных проблем – это проявление эйджизма или дискриминации по возрасту.
Все мнения можно разделить на четыре принципиальные группы. Первая из них объединяет суждения по поводу формального приема на работу и увольнения пожилых. На наличие таких проблем прямо или завуалированно (« затруднен найм на работу », « есть ограничения по возрасту, не проходят уровень заполнения анкет », « все больше возрастных ограничений при приеме на работу », « при приеме на работу предпочтение отдают молодым соискателям », « сокращение штатов, как правило, распространяется на людей старшего возраста, это не всегда справедливо ») указали четверть (25,0%) экспертов.
Ко второй группе мы отнесли те мнения, которые отражали эйджизм не в его формализованном виде, но в качественных проявлениях. Последние имели место как с точки зрения общей нужности, востребованности пожилых работников в сфере труда и занятости (« невостребованность тех, кто еще может и готов трудиться », « трудно найти достойную работу », « приемлемую область труда »), так и с позиций достигнутого ими уровня квалификации (« трудоустройство высококвалифицированных специалистов », « как правило, предлагается низкооплачиваемая (низкоквалифицированная) работа – кроме случаев известности/ конкретного опыта в конкретной области ). Такого рода проблемы отметили примерно 15,9% респондентов. Третья группа объединила взгляды абсолютных оптимистов (6,8%), полагающих, что « для данного возраста особых проблем нет », « нет специфических проблем ».
И последняя группа мнений (6,8%) имеет сборный характер, так или иначе отражающих возрастные особенности (« трудности изменения места работы и перехода к новым технологиям работы, безработица при потере работы », « изменившаяся мотивация », « здоровье »).
Тем не менее проведенный опрос позволяет безусловно констатировать: большинство граждан пенсионного возраста и тем более те из них, которые обладают высоким уровнем образования и интеллекта, готовы продолжать трудиться и после окончания официально установленного трудоспособного возраста. Учитывая высказанные экспертами пожелания относительно предпочтительных сфер продолжения трудовой деятельности (выполнение обучающих, воспитательных, сопровождающих, проверочно-контрольных функций), остановимся на возможных вариантах таковой.
Представляется, что из множества предлагаемых в теории и практике разнообразных путей сохранения вовлечения и/или пожилых в сферу занятости наиболее перспективными являются следующие.
Так, во-первых, следует сказать о развертывающемся c 2013–2014 гг. в России движении «Компании для всех возрастов». Принципиально это движение представляет собой одну из вариаций на тему реализации идеи общества для всех возрастов1 (понятие введено в Мадридском международном плане действий по проблемам старения, 2002) в части сочетания интересов старших и младших членов общества в сфере труда и занятости. В текущем году при поддержке Фонда Тимченко опыт работы реальных российских разновозрастных команд (подобного рода практикой располагают, как правило, крупные компании; в данном случае речь идет о компаниях МГТС, МТС, «Ростелеком», «Балтийский завод – судостроение», «Сан Мишель»,
«Омскэнерго») обобщен в аналитическом сборнике «Опыт как ценность» [8].
На основе реальной аналитики и представления лучших практик и программ по использованию потенциала специалистов старших возрастов демонстрируются достигнутые результаты повышения эффективности бизнеса в части: роста лояльности сотрудников и их мотивации, роста продаж в сегменте 50+ потребительских рынков, снижения текучести персонала и т. д. В некотором смысле это позволяет рассматривать выпущенный сборник и как просветительский проект, иллюстрирующий эффективность использования сотрудников старших возрастов наряду с молодыми кадрами, продвигая идеи общества для всех возрастов и позволяя тем самым бороться с возрастной дискриминацией и развивать идеи agediversity в бизнес-сегменте.
Сообщество работодателей, накопивших опыт эффективной организации работы с сотрудниками зрелого возраста, постоянно пополняется. К нему, помимо упомянутых в сборнике, присоединились «Росатом», Metlife, ООО «Страховая компания “Эрго Жизнь”» и пр.
Вторым вариантом направления сил работников пенсионного возраста в конкретное общественно полезное русло с учетом их пожеланий представляется нестандартный подход, получающий в настоящее время распространение в Израиле [9]. В этой стране вполне благополучные в карьерном отношении высокодоходные специалисты и руководители старших возрастов (экономисты, банкиры, программисты, военные, ветеринары и т. д.) осознанно и целенаправленно прерывают в старших возрастах свои карьеры и переходят работать в школы простыми учителями. Только за последние два года их число составило почти четыре тысячи человек.
«<…> учителя, которые пришли из других профессий <…> это успешные люди со своим видением мира, опытом и подходом к педагогике. И у нас теперь почти нет дефицита кадров», – говорит директор школы Дорит Сирабела. «То, что все больше профессионалов приходят из других сфер в школы, говорит об изменении системы ценностей. Многие отка- зываются от высоких зарплат ради того, чтобы быть причастными к развитию общества», – комментирует менеджер школы Итай Леви.
Программа переобучения потенциальных учителей, разработанная в израильских колледжах, рассчитана на один год. Она сочетает лекционный курс и практические занятия в школах. Конкурс при этом составляет пять человек на одно учительское место. В год отбирается всего порядка 30 студентов.
Последний подход как раз позволяет решить две смежные проблемы: трудоустройство лиц старших возрастов (при условии их дообучения) и ликвидация нехватки педагогических кадров в отечественной средней общей и, возможно, средней профессиональной школе. Очевидно, такого рода шаги должны не только сопровождаться, но и предваряться специальной пропагандистской кампанией.
Условно могущий быть названным «педагогическим», опыт подобного рода, правда, на несколько другом уровне существует в нашей стране. В частности, в Иркутской области в рамках проекта «Бабушка рядом» местных пенсионерок (после специального отбора) трудоустраивают бюджетными нянями к младшим школьникам [10]. В Ивановской области к участию в проекте «Бюро бабушкиных услуг» привлечены бывшие педагоги с большим опытом работы с детьми (10 женщин пенсионного возраста), каждая из которых опекает 2–3 «внуков» [11]. Там же, в Иваново, в рамках проекта «Шаг навстречу» на базе Центра временного проживания (приюта) для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации без крыши над головой, организованы курсы по домоводству и рукоделию для 15 женщин с младенцами, проживающих в приюте, и 25 матерей, находящихся на учете в центре соцзащиты населения, которые патронируются группой из 12 женщин пенсионного возраста (волонтеров) для молодых матерей [11].
В непедагогических сферах трудоустройство при условии доучивания, а в некоторых случаях и без такового, предоставляется сегодня пожилым и в области страхования (ООО «Страховая компания “Эрго Жизнь”» в 42 городах России), библиотечного дела (библиотека № 97 им. О. Мандельштама, г. Мо- сква), бухгалтерского дела, финансов и маркетинга. Иногда это реализуется на условиях фрилансерства (свободной работы).
В то же время ясно, что во всех приведенных (отечественных) примерах счет идет на единицы, в лучшем случае – на десятки человек, и – ни в коем случае – не на сотни и сотни тысяч вовлеченных в общественное производство пенсионеров.
Таким образом, накладывая друг на друга два полученных/принципиальных вывода (относительно пожеланий трудиться по окончании официально установленного трудоспособного возрасти и возможностей реализовать это намерение с точки зрения как реальной занятости пожилых, так и с позиций состояния здоровья), можно прийти к однозначному выводу, что реальным кадровым ресурсом экономики являются так называемые молодые пожилые1 (в возрасте 60–65 лет). «В нашей стране слой населения «the Young Old» действительно полностью не сформиро- вался, но говорить об [его] отсутствии вообще не правомерно. По результатам исследований ИСЭПН РАН, до 18% пожилых горожан обладают ресурсным потенциалом <…> Это пока немногочисленное, но уже демографически значимое поколение пожилых людей в России» [13]. И потенциальные пути для этого уже проторены.
Более того, в качестве вывода хочется искренне разделить утверждение по поводу вовлеченности пожилых в общественное производство, приведенное в терминологическом разделе сайта Forex [14]: «Работающие пенсионеры очень выгодны для страны. Мало того, что они не просят у государства, а зарабатывают сами, но еще и отрабатывают пенсию, делая взносы в Пенсионный фонд. Использование потенциала пожилых людей является определенной базой для дальнейшего развития, поскольку у общества в результате появляются дополнительные ресурсы, а у пожилых людей – возможность к самореализации».
Список литературы Социально-экономические аспекты сохранения и использования человеческого капитала старших поколений: положение в сфере труда и занятости
- Беляев Ю. А. Предложения по реализации программы научных исследований: «Определение практических мер по радикальному продлению активного периода полноценной трудовой деятельности физически здоровых людей пенсионного возраста» и проведению в рамках этой программы эксперимента «Исследование возможности и экономической целесообразности переобучения физически здоровых специалистов с высшим образованием и их долговременного участия в общественном производстве». М., 2007-2009. 35 с. URL: http://www.yur.ru/Belyaev/Predlojenie. PDF (дата обращения: 15.08.2016).
- Основные направления социальной политики в поддержку старшего поколения пора менять, считают исследователи. URL: www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebP ages/1E1D5E2AF27F816344257B8F00474318Rus (дата обращения: 30.09.2016).
- Выход на пенсию -не повод бросать работу?//Пресс-выпуск №2978 (19.11.2015). URL: wciom.ru/index.php?id=236&uid=115470 (дата обращения: 30.09.2016).
- Поздняя пенсия -«за» и «против». URL: romir.ru/studies/790_1464642000/(дата обращения: 15.08.2016).
- Показатели, характеризующие занятость населения в возрасте старше трудоспособного по субъектам Российской Федерации в 2014 году (по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости. URL: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/# (дата обращения: 15.10.2016).
- Так называемые «the Young Old» согласно классификации американских геронтологов Б. Нейгартена и Э. Шанаса. См.: .
- Трубин В., Николаева Н., Палеева М., Гавдифаттова С. Социальный бюллетень Пожилое население России: проблемы и перспективы. М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (март 2016). 45 с.
- Бурдяк А. Я., Гришина Е. Е. Пожилые в России: неравенство доступа к современному стандарту потребления. URL: regconf.hse.ru/uploads/4b61ae79026efd616f26639 b96d3ef562a3289f9.pdf (дата обращения: 06.02.2016).
- Опыт как ценность. Деловое сообщество «Компании для Всех Возрастов»: аналит. сб. 2016. 31 с. URL: http://www.youblisher.com/p/1408115 (дата обращения: 02.10.2016).
- В Израиле тысячи успешных и обеспеченных людей бросают карьеру, чтобы стать простым учителем (22 марта 2016). URL: www.1tv.ru/news/2016/03/22/154105-v_ izraile_tysyachi_uspeshnyh_i_obespechennyh_lyudey_brosayut_karieru_chtoby_stat_ prostym_uchitelem (дата обращения: 16.04.2016).
- Дети: Эффект бабушки. URL: baba-deda.ru/news/1053 (дата обращения: 16.04.2016).
- В Ивановской области реализуются уникальные программы для людей старшего поколения. URL: http://izvestia.ru/news/553528#ixzz4LITzMCZF (дата обращения: 16.04.2016).
- Neugarten B. L. Age groups in American Society and the Rise of the Young Old//Political Consequences of Aging, Annals of the American Academy of Social and Political Science. 1974, Volume 415.
- Доброхлеб В. Г. Ресурсный потенциал и занятость пожилых людей в современной России. Ярославль: Лад, 2004. С. 78-80.
- Пенсионер. Материалы сайта Forex. URL: http://forexaw.com/TERMs/Society/Culture/l984_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0 %B5%D1%80_Pensioner_%D1%8D%D1%82%D0%BE (дата обращения: 17.10.2016).