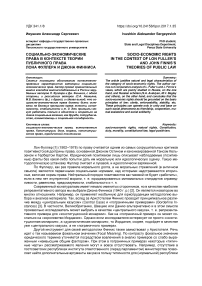Социально-экономические права в контексте теории публичного права Лона Фуллера и Джона Финниса
Автор: Ивушкин Александр Сергеевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обоснованию естественно-правовых характеристик категории социально-экономических прав. Автор провел сравнительный анализ взглядов малоисследованных в России зарубежных авторов Л. Фуллера и Дж. Финниса, с одной стороны, и российских авторов (С.А. Авакьяна, М.В. Баглая и др.), с другой, и сделал вывод, что социально-экономические права должны быть основаны на базовых принципах права: ясности, исполнимости, стабильности и т. д. Эти принципы могут работать только в единстве и опираться на такие социальные явления, как дружба, сотрудничество, взаимопомощь и социальная солидарность.
Социально-экономические права, естественные права, конституция, долг, мораль, конституционное право, юридический позитивизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14938758
IDR: 14938758 | УДК: 341.1/8
Текст научной статьи Социально-экономические права в контексте теории публичного права Лона Фуллера и Джона Финниса
Лон Фуллер [1] (1902–1978) по праву считается одним из самых сокрушительных критиков позитивистской доктрины права, основанной Джоном Остином и канонизированной Гансом Кель-зеном и Гербертом Хартом. Юридический позитивизм лишь описывает наблюдаемые (позитивные) факты без какой-либо попытки дать им моральную или идеологическую оценку. Такую методологическую установку Фуллер считает и лукавой, и идеологически заряженной.
По Фуллеру, как раз правила морального долга, а не моральных стремлений (в античном смысле) являются первичными социальными нормами, над которыми надстраиваются вторичные, включая нормы права. Нейтральный порядок позитивистов как таковой не будет «работать», если в нем нет внутренней морали, т. е. юридизированных минимальных стандартов справедливости, равенства, предсказуемости, стабильности и т. п.
Современный юснатурализм имеет немало именитых сторонников, но в качестве наиболее репрезентативного автора мы выбрали Джона Финниса (1940 г. р.) [2]. Он является новатором во многих отношениях. Например, он применяет необычную для юриспруденции методологию выбора и анализа материала. Так, вслед за Аристотелем Финнис проводит принципиальное различие между «центральным казусом» (Central Case) и «пограничными примерами» (Borderline Instances) [3]. В частности, Великобританию, Швецию или Данию альтернативно и в этом смысле произвольно исследователь может выбрать в качестве «центрального казуса», т. е. репрезентативного примера для «конституционной монархии». Как на «пограничный пример» он может сослаться на «королевство Иордания». Однако если исследователя интересует не просто «конституционная монархия», а «дуалистическая монархия», то Иордания, скорее, подойдет в качестве уже «центрального казуса», а не «пограничного примера».
Другой инструмент для своей методологии Финнис также заимствовал у Аристотеля. Речь идет о так называемом фокальном значении (Focal Meaning). По контрасту фокальное значение юридического термина уточняется посредством вовлечения в анализ примеров со слабо выраженным «наивысшим общим фактором». При этом в пограничных примерах некоторые «типичные черты» рассматриваемого явления могут и вовсе отсутствовать. Например, отсутствие в постсоветских республиках института ответственного (перед парламентом) министерства позволяет найти дополнительные аргументы как раз в пользу типичности для (нормальной) республики указанного института публичной власти. Однако, оценивая западные демократии в эпоху глобализации, исследователь может прийти к выводу, что институт ответственного министерства начинает деградировать и в тех странах, где он когда-то возник. Соответственно, указанный институт из фокального значения термина «республика» будет перемещен в кластер вторичных значений.
Финнис указывает на то, что не только обыватели, но и ученые мужи нередко не умеют опознать природу естественного права: «Естественное право не знает ни подъема, ни упадка, оно не может быть… призвано к ответу за катастрофы человеческого духа или зверства человеческой практики» [4, р. 24]. Итак, естественное право как таковое - это онтологическое (бытийное) единство и равенство представителей человеческого рода, имеющих врожденное и согласное представление о базовых человеческих ценностях. Онтологическим «якорем» естественного права служат такие социальные явления, как дружба, сотрудничество, взаимопомощь и социальная солидарность в широком смысле. Все они так или иначе вовлечены в механизм дистрибутивной, или распределительной, справедливости. Однако цель справедливости - не равенство, а общее благо, благосостояние всех членов сообщества.
Отечественные конституционалисты преимущественно безразличны к доктрине Фуллера о внутренней морали права и не ставят перед собой задачу интегрировать в систему российского правопорядка имманентную моральную компоненту. Напомним, что у Фуллера она состоит из восьми формальных, или процедурных, принципов: нормативности, публичности, неретроактив-ности, ясности, непротиворечивости, реализуемости, стабильности права, а также соответствия правоприменительных актов нормативным актам [5]. Они, как правило, видят только те из указанных принципов, которые имеют форму конституционных положений или представлены в виде норм федеральных конституционных законов.
Из восьми принципов внутренней морали права, по Фуллеру, конституционное право России заявляет лишь о некоторых, о большинстве же - «молчит». Бывают редкие исключения. Так, профессор С.А. Авакьян выделяет принцип стабильности, как представляется, из самой идеологии конституционализма, а не из норм Конституции РФ. Аналогичную позицию занимают профессор С.И. Носов с соавторами Е.Ю. Догадайло и И.Д. Хутинаевым [6].
Однако и С.А. Авакьян рассматривает стабильность как характеристику отрасли конституционного права, а не как формальный принцип российского правопорядка вообще. Более того, мы видим, что стабильность конституции не совсем «стабильна»: она является лишь диалектическим моментом в паре с так называемым динамизмом: «Таким образом, вместе со стабильностью перед конституцией стоит вечная проблема динамизма...» [7, с. 164-165].
В контексте воззрений Фуллера также нуждается в корректировке тезис профессора М.В. Баглая о том, что «право и мораль должны обеспечивать неотвратимость наказания в отношении любого гражданина или должностного лица, посягнувшего на конституционные порядки» [8]. Во-первых, по Фуллеру, мораль (как социальная, так и личная) всегда предшествует праву, а не следует за ним. Во-вторых, только уголовно-правовая концепция права, а не гражданско-правовая концепция (не говоря уже о морали) имеет в виду «неотвратимость наказания».
Отсюда вытекают два малоутешительных следствия. Во-первых, принципы внутренней морали российского права нередко имеют разный иерархический статус. Так, если принцип публичности закона всеми презюмируется и считается общеотраслевым, то запрет обратной силы закона можно рассматривать скорее как базовый отраслевой принцип, а именно - принцип уголовного права. Поскольку неретроактивность явно в конституционном праве России не закреплена, то вопрос о применении или неприменении обратной силы закона в сфере конституционного права, а также других отраслей, за исключением уголовного права, остается открытым. Такова, впрочем, логика юридического позитивизма, господствующего во всяком конституционном праве, с которой решительно не согласен Фуллер.
Во-вторых, многие принципы внутренней морали права, по Фуллеру, даже не презюмируются, т. е. вовсе не известны отечественному конституционному праву. Например, принцип правовой стабильности не закреплен в отечественном правопорядке вообще и в конституционном праве в частности.
Итак, на нормативный каталог социально-экономических прав распространяются все восемь указанных принципов внутренней морали правопорядка по Фуллеру, независимо от того, закреплены они в конституционном праве России в явном виде или нет.
В контексте российской социологии права можно сделать вывод, что из этих восьми принципов часто «буксуют» принципы нормативности, непротиворечивости, реализуемости, стабильности, а также соответствия правоприменительных актов нормативным актам. В социальном законодательстве России принцип нормативности, как правило, сводится к принципу материальной нормативности без соответствующего процессуально-нормативного сопровождения. Другими словами, материальная норма о материнском капитале может оказаться «спящей» ввиду отсутствия нормативно закрепленной процедуры предоставления такого капитала.
В контексте теории Финниса социально-экономические права – это не просто права, пози-тивированные российскими законами. Данные права имеют естественно-правовую природу. Социально-экономические правопритязания граждан обладают статусом естественно-правовой справедливости, независимо от того, закреплены они в позитивном праве России или нет.
Ссылки:
-
1. См.: Фуллер Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой. М., 2007.
-
2. См.: Финнис Дж. Естественное право и естественные права / пер. с англ. В.П. Гайдамака, А.В. Панихиной. М., 2012.
-
3. Finnis J. Natural Law and Natural Rights. 2nd ed. Oxford, 2011. P. 10–11, 24.
-
4. Ibid. P. 24.
-
5. Fuller L. The Morality of Law (1964). Revised ed. New Haven ; London, 1969. P. 39.
-
6. Авакьян С.А. Конституционное право России. М., 2005. Т. 1. С. 164–165 ; Конституционное право Российской Феде
рации / отв. ред. С.И. Носов. М., 2014. С. 13.
-
7. Авакьян С.А. Указ. соч. С. 164–165.
-
8. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. 6-е изд. М., 2007. С. 113.
Список литературы Социально-экономические права в контексте теории публичного права Лона Фуллера и Джона Финниса
- Фуллер Л. Мораль права/пер. с англ. Т. Даниловой. М., 2007.
- Финнис Дж. Естественное право и естественные права/пер. с англ. В.П. Гайдамака, А.В. Панихиной. М., 2012.
- Finnis J. Natural Law and Natural Rights. 2nd ed. Oxford, 2011. P. 10-11, 24.
- Fuller L. The Morality of Law (1964). Revised ed. New Haven; London, 1969. P. 39.
- Авакьян С.А. Конституционное право России. М., 2005. Т. 1. С. 164-165.
- Конституционное право Российской Федерации/отв. ред. С.И. Носов. М., 2014. С. 13.
- Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. 6-е изд. М., 2007. С. 113.