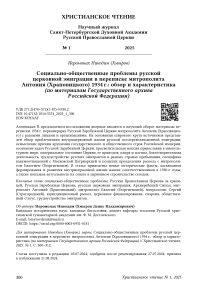Социально-общественные проблемы русской церковной эмиграции в переписке митрополита Антония (Храповицкого) 1934 г.: обзор и характеристика (по материалам Государственного архива Российской Федерации)
Автор: Хмыров Д.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемом исследовании впервые вводятся в научный оборот материалы переписки 1934 г. первонерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Антония (Храповицкого) с разными лицами и организациями. На основании широкого круга источников представлен обзор проблематики внутрицерковной жизни русской послереволюционной эмиграции: осмысление причин крушения государственного и общественного строя Российской империи, осознание задач Русской Зарубежной Церкви, просветительская миссия православия в инокультурном мире, материальное состояние Церкви, ее приходов, клира и паствы, благотворительная деятельность, трудоустройство русских эмигрантов в разных странах пребывания, специфика взаимоотношений с Московской Патриархией и попытки преодоления раскола с митрополитом Евлотием (Георгиевским). В статье приведены новые исторические факты, касающиеся формирования и развития внутрицерковной жизни наших соотечественников в 1930-е годы, а также показана актуальность их опыта в церковном строительстве сегодня.
Социально-общественные проблемы, русская православная церковь за границей, русская зарубежная церковь, русская церковная эмиграция, архиерейский синод, митрополит антоний храповицкий, митрополит евлогий георгиевский, митрополит сергий страгородский, юрисдикционный раскол, церковное финансирование, епархия, общественный статус, трудоустройство эмигрантов
Короткий адрес: https://sciup.org/140309281
IDR: 140309281 | УДК: 271.2(470+571)(1-87)-9:930.2 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_300
Текст научной статьи Социально-общественные проблемы русской церковной эмиграции в переписке митрополита Антония (Храповицкого) 1934 г.: обзор и характеристика (по материалам Государственного архива Российской Федерации)
В последние годы существенно вырос научный интерес к судьбе русской церковной эмиграции, оказавшейся вне пределов Отечества вследствие революции и Гражданской войны. Стали доступными материалы архивов, появилось множество исследований в данной области (обзоры по историографии темы см.: [Хмыров, 2014, Хмыров, 2016, Никодим Хмыров, 2019, Никодим Хмыров, 2021а, Никодим Хмыров, 2021б; Зайде, 2022]. Тем не менее пласт проблем, которые ждут своего детального исследования, достаточно широк. К ним, в частности, можно отнести комплекс вопросов, касающихся устроения и развития собственно внутрицерковной жизни, ее различных аспектов в разные периоды и в разных географических точках, анализ тех проблем, с которыми сталкивались наши соотечественники в странах пребывания.
В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в составе фонда Р-6343 «Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей, г. Сремские Карлов-цы, Югославия», опись 1, имеется дело 288 «Переписка Архиерейского синода с церковнослужителями по разным вопросам. 1932-1941». В своем исследовании мы сосредоточились на переписке митр. Антония (Храповицкого) с верующими Русской Зарубежной Церкви, датированной 1934 г. Отношение адресатов к первоиерарху, поднимаемая в письмах проблематика, формулируемые вопросы и ответы показывают характерный срез внутрицерковной жизни эмиграции на втором десятилетии ее существования.
Прежде всего отметим глубокое уважение, желание услышать и воплотить в жизнь авторитетное мнение митр. Антония, о чем говорят многие речевые обороты в письмах: «...я снова безгранично счастлив, что имею возможность написать Вам, Ваше Блаженство, — веря в то, что Вы не откажете мне в своем внимании — как не отказывали мне в нем, когда я писал Вам. в Польше» (ГАРФ. Ф. 6343. Д. 288. Л. 34); «Огорчило нас очень известие о том, что Ваше Блаженство решило уйти на покой. <...>. Для Заграничной церкви Ваш уход на покой — большой и непоправимый удар. Нет Владыки, равного Вашему Блаженству по авторитету, и сам Блаженнейший Антоний митрополит Киевский и Галицкий — есть целая эпоха Русской церкви… <…> к Вашему голосу прислушиваются в Сов. России»; «…в настоящую минуту очень нужна Ваша поддержка» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 42); «Примите наше скромное благодарение Ваших духовных чад…» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 71); «Позвольте мне обратиться к Вам с настоящими моими больными мыслями, как к своему уважаемому и любимому Верховному духовному пастырю и как к мудрейшему из мудрых духовных учителей и наставников наших» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 85); «Зная Вашу безграничную доброту и Вашу мудрость, я решил повергнуть эти, может быть, больные настроения, к Вашим ногам, благоразумнейший и добрейший Владыка, не осудите меня строго за них, но отечески благословите, простите. Прошу Ваших святых молитв. Ваш недостойный горячий почитатель и любящий духовный сын» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 86 об.); «Обращаюсь к Вам с почтительной просьбой не отказать, уделить немного времени. <.> .мне хотелось бы предварительно услышать отзыв. Вашего Блаженства, который был бы решающим в этом случае и вместе, если бы он был благоприятным, дал бы повод к дальнейшим трудам в этом направлении. За причиняемое беспокойство я прошу простить меня, но я слишком дорожу Вашим мнением, что да послужит моим оправданием. Да хранит Вас Бог на многие годы на благо церкви и науки. Вашего Блаженства всеподданнейший слуга и почитатель…» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 88–88 об.); «Высокопреосвященнейший Владыка, весьма драгоценным для меня было недавнее письмо ваше. <…>. Шлю Вам, Высокопреосвященнейший Владыка, мои самые сердечные пожелания и испрашивая молитвы Ваши, имею быть душевно преданным и глубокопочитающим…» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 90).
Всё это свидетельствует о существовавшем в массе верующих русских беженцев глубоком духовном авторитете митр. Антония, готовности прислушаться к его мнению. Причем отметим, что на первый план выступает не иерархическое положение, не занимаемое им место певроиерарха, а его личные человеческие качества и многолетние заслуги.
В числе адресатов встречаем патриарха Сербской Церкви Варнаву (Росича), Управляющего русскими православными общинами в Болгарии архиеп. Серафима (Соболева), игуменью Руфину (Кокореву) из Харбинского женского монастыря, эмигрантку-благотворительницу Елизавету Николаевну (к сожалению, фамилию установить не удалось), Михаила Петровича Бачманова из Латвии, проживающую в Париже сестру священника Марию Дмитриевну Городцову, верующих из Прикарпатья, специалиста по церковному праву С. В. Троицкого, известного художника Н. Рериха, а также простых русских эмигрантов: пожилого М. В. Глаголева и молодого Д. Зубкова. Шла переписка с организациями, такими как Совет Федерации Союзов русских трудящихся христиан во Франции и Православный Центральный комитет по организации торжеств, посвященных памяти свящ. Максима Сандовича.
Круг обсуждаемых вопросов был весьма обширный — от личных до историософских. В переписке первоиерарха с основательницей и игуменьей Харбинского Богородице-Владимирского женского монастыря Руфиной (Кокоревой), среди прочего, обсуждаются вопросы строительства и деятельности обители, приводятся свидетельства митрополита о крайне скудном существовании русских изгнанников за рубежом и о благотворительной деятельности монахинь (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 28–29 об.). Указанная обитель была основана в 1924 г., вынуждена была сменить несколько мест пребывания в городе, но в 1927 г. окончательно разместилась в обширных зданиях на Почтовой ул. «Материально окрепнув, монастырь начал интенсивную благотворительную деятельность. При нем, в частности, был открыт Ольгинский приют для девочек-сирот. <...> К началу 1930-х гг. в монастыре проживало до пятидесяти монахинь (рясофорных и мантейных) <…>» [Коростелев, Караулов, 2019, 279].
Митрополит Антоний, обращаясь к игуменье Руфине, писал:
Ваши благодеяния нам известны из рассказов приезжающих от Вас… о Ваших трудах и хлопотах, а главное о тех заботах милосердия, которые Вы проявляете к бедным, бесприютным, главным образом, духовенству (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 28–29 об.).
Харбин принадлежал к числу крупнейших мест сосредоточения русской церковной эмиграции на Дальнем Востоке. Множество русских эмигрантов находилось на северо-востоке Китая — в Маньчжурии. После революционных потрясений и Гражданской войны в России население Харбина значительно увеличилось за счет русских переселенцев. Таким образом, этот северо-маньчжурский город становится центром русской эмиграции на Востоке, или, по-другому, — центром «русского» Китая (см.: [Кострюков, 2018, 310]).
Постоянной темой переписки является материальное неблагополучие русской церковной эмиграции в изучаемый период. Русская Зарубежная Церковь не имела государственной регистрации в принимающих странах и, следовательно, не могла пользоваться бюджетным финансированием, не имела права вводить официальные налоги и таксы для взимания с прихожан, как это делали иные религиозные структуры. Она существовала за счет поступлений небольших налогов с продажи свечей, треб, погребальных принадлежностей, бракоразводных пошлин и пожертвований далеко не богатой в своем большинстве паствы. Тема финансов регулярно поднималась на заседаниях Архиерейского Синода и Соборов. Деятельность этих институтов характеризовалась высокой степенью отчетности, регулярным поиском путей оптимизации расходов и дополнительных источников доходов. Вместе с тем проводилась по возможности широкая благотворительная работа. Многие приходы были настолько бедны, что не могли позволить себе даже оформить ежегодную подписку на официальный орган печати «Церковные ведомости». А несостоятельные прихожане регулярно обращались в Архиерейский Синод с просьбой сократить размер выплаты за публикацию объявлений о так называемом безвестном отсутствии одного из супругов и уплаты бракоразводных пошлин или вообще освободить их от этих выплат.
И тем не менее русское зарубежное духовенство, несмотря на многие трудности беженской жизни, с честью осуществляло свою миссию пастырского окормления.
Переписка митр. Антония с русской благотворительницей Елизаветой Николаевной1 также затрагивает темы милосердной деятельности и развития епархиальной жизни (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 30). Предстоятель Русской Зарубежной Церкви выражает благодарность за преподнесенный дар — комплект замечательного архиерейского облачения и два ящичка чая. Отметим в этом трогательную заботу верующих о своем предстоятеле. Здесь же митр. Антоний, приводя в пример библейский сюжет о неотступной просьбе пророка Илии, обращенной к вдове из Сарепты, переходит к объяснению важнейшей задачи, стоящей перед Русской Зарубежной Церковью.
Последняя заключалась в следующем. Основной смысл существования Русской Зарубежной Церкви можно охарактеризовать как постепенное и поступательное формирование в странах рассеяния централизованной церковной жизни — епархиальной, приходской и монастырской, с соответствующими механизмами деятельности, т. е. стремлением охватить пастырским окормлением все места сосредоточения русской эмиграции. К 1934 г. Русская Православная Церковь за границей имела епархиальные структуры практически на всех континентах, за исключением Австралии. Первоиерарх сообщает, что здесь проживали два русских священнослужителя и несколько тысяч мирян, но архиерея и налаженной полноценной епархиальной жизни не было. Добавим, что «по переписи 1921 г. русская община в Австралии насчитывала 4138 человек; 1933 г. — 4873 <...>. Больше всего русских переселенцев прибыло в 1925 г., после чего австралийское правительство снизило квоты на прием эмигрантов. Новая волна связана с прибытием в середине 1930-х гг. „китайских“ и „харбинских“ русских. Большая часть россиян поселилась в Новом Южном Уэльсе» [Бочарова, 2011, 81]. Существовала договоренность с митр. Нестором (Анисимовым) о необходимости побывать в Австралии, изучить на месте возможности организации и развития епархиальной жизни.
Для такой поездки, конечно, потребны немалые средства, а у владыки Нестора, как и у нас, таковых нет (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 30).
Поэтому митр. Антоний, приводя в пример библейский сюжет о настойчивости пророка Илии, просит свою благодетельницу еще раз помочь в осуществлении важнейшей миссии, возложенной Архиерейским Собором на митр. Нестора, по результатам которой тот готов был возглавить новообразованную епархию на австралийском континенте.
Другой актуальной темой переписки продолжала оставаться тема раскола в русском зарубежье, произошедшего в сер. 1920-х гг. Архиерейский Синод постоянно искал пути к примирению с митрополитами Евлогием (Георгиевским) и Платоном (Рождественским).
Собор наш, слава Богу, закончился благополучно, запрещение с митрополита Евлогия и платоновских архиереев сняли, но, кажется, им и это не нравится, судя по газетам, они недовольны и ищут новых путей к разрушению церкви Заграницей, а может быть и вообще всего Православия. Разумею на архиереев. Ибо они являются только игрушками в руках масонских, усердно выполняют их желания. Все это очень прискорбно, но, к сожалению, это так (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 30).
Эти попытки благодаря решительному участию патриарха Сербского Варнавы (Росича) в 1935 г. увенчались успехом — удалось восстановить каноническое единство 95% русских зарубежных приходов. Подробнее об этом см.: [Никодим Хмыров, 2021б]. К сожалению, достигнутое единство оказалось кратковременным. В последующие годы тема юрисдикционных споров и противоречий за границей также продолжала находиться в центре внимания русской церковной эмиграции.
За процессом непростого поиска путей к примирению Архиерейского Синода и митр. Евлогия пристально следили верующие Русской Зарубежной Церкви. Многие имели собственное суждение о существовавшем расколе. Так, проживавший в Латвии Михаил Петрович Бачманов читал публиковавшиеся в печати материалы о течении церковной жизни в русском зарубежье, об итогах Архиерейского Собора и новом кадровом составе Синода (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 34-35). В письме митр. Антонию он высказывал недоверие примирительным шагам митр. Евлогия и называл жизненный путь этого иерарха пляской на канате, а поиски мира — эквилибристикой. Адресат митр. Антония дает не только эти любопытные характеристики, а идет дальше — специально для латвийской газеты «Сегодня», издававшейся на русском языке, он подготовил статью-исследование, в которой на документальной основе пытался доказать неправомерность шагов главы Западноевропейской епархии. М. П. Бачманов высказывался радикально: Архиерейский Синод не должен идти на компромисс и соглашение, поскольку даже со снятием прещения с этого иерарха за ним остается, как он пишет, «грех поддержки и участия в „братстве св. Софии“, остается грех лжи — ведь он сам был автором проекта Синода Заграничной русской церкви» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 30). М. П. Бачманов также был информирован о желании патр. Варнавы под своим председательством созвать Собор всех русских архиереев за рубежом и выйти на путь примирения. Однако он высказывает сомнение в успехе данного намерения, поскольку «Собора одинаково боится» как митр. Евлогий, так и последователи покойного к тому времени митр. Платона (Рождественского) в Северной Америке (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 30). До некоторой степени автор оказался прав. И тем замечательнее его анализ, который впоследствии подтвердился, — насколько глубоко обычный верующий человек, не облеченный в священнический сан, переживал о существовавшем разделении в русской церковной эмиграции и делал аналитически правильные выводы.
В дискуссии принимали участие не только простые верующие, но и известные ученые, такие, к примеру, как крупный церковный канонист Сергей Викторович Троицкий. В своем кратком письме на имя митр. Антония он приносит извинение и дает объяснение неловкой ситуации, в которой он оказался как автор статьи. Он поясняет, что получил из Брюсселя некий «Листок» (автор не дает выходных данных «Листка»), где письмо первоиерарха, направленное в адрес Лозаннской конференции, приводилось как определенная апология подчинения митр. Евлогия Вселенскому патриарху. Данная интерпретация вызвала возмущение русского канониста, и он подготовил ее подробный критический анализ, который направил митрополиту Литовскому Елевферию (Богоявленскому) в целях публикации в «Голосе Литовской епархии». При получении номера со своей статьей он с сожалением увидел, что ее можно трактовать скорее как направленную лично против митр. Антония, а не столько против вышеупомянутой интерпретации брюссельского «Листка». «Смею уверить Вас, что это не так, и прошу прощения, если заметка покажется Вам резкою. Постараюсь впредь быть осторожнее» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 82). Вновь и вновь мы видим глубину потрясения обычных прихожан от существовавшего церковного раскола, а также их искреннее, хотя зачастую негибкое желание сохранить чистоту и единство православия.
Отношения с Русской Церковью в России и лично с заместителем местоблюстителя патриаршего престола митр. Сергием (Страгородским) также в этот период складывались непросто. Попытки последнего наладить диалог с советской властью, чтобы получить официальный статус для Церкви, приостановить масштаб религиозных гонений, выраженные им в Декларации о лояльности от 29 июля 1927 г., а затем его требование к русским зарубежным епископам дать подписку о лояльности, т.е. аполитичности в отношении большевиков, натолкнулись на решительное сопротивление Русской Зарубежной Церкви. Таким образом, градус напряжения в отношениях двух ветвей Русской Церкви был на тот момент крайне высоким. Время покажет, что перечисленные попытки урегулировать проблему противостояния с новой властью, предпринимаемые митр. Сергием, оказались во многом тщетными.
В следующей переписке представлено характерное мнение русских беженских архиереев об этом иерархе (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 37-42 об.). Проживающая в Париже русская эмигрантка Мария Дмитриевна Городцова в своем письме от 8/15 октября 1934 г. обратилась к митр. Антонию за советом о духовном смысле трагедии, случившейся с ее родным братом, священнослужителем, оставшимся в России. Родственник направлялся в Москву на встречу с митр. Сергием (Страгородским), однако по неосторожности пострадал в дороге и в итоге вынужден был остановиться в Петрограде на лечении у своих родных-врачей.
Он ехал из Б. на телеге, лошадь круто повернула и вывалила его в канаву, у него помяты ребра и образовался сухой плеврит <…> (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 39).
В этом происшествии брат увидел не простую случайность, а глубокий смысл — указывающий на необходимость отказа от дальнейшей встречи с митр. Сергием.
Но его немного смутило то, что он ехал на свидание с митрополитом Сергием, и падение заставило его прямо поехать в Петроград к сестре (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 40).
В этой связи для нас важна выраженная первоиерархом характеристика церковной деятельности митр. Сергия — как вредительской для Церкви на родине и за рубежом:
<…> но, вместе с тем, является мысль, не нужно ли в этом несчастье усматривать перст Божий, ставший на пути его поездки к митр. Сергию, принесшему Русской церкви и на родине, и за границей столько вреда (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 43).
Попутно отметим, с какой быстротой ответил митр. Антоний: письмо М. Д. Город-цовой датировано 18/5 октября, а ответ — 23/10, всего пять дней. В этом скором ответе высказано резко негативное отношение к проводимой митр. Сергием церковной политике. Однако при этом необходимо учитывать колоссальное давление со стороны советского государства и огромную меру ответственности за судьбу Церкви, лежащую на плечах заместителя местоблюстителя, угрожающие возможностью потери свободы и самой жизни.
Важнейшей темой, волновавшей русскую эмиграцию, было осмысление причин крушения государственно-общественного строя Российской империи и того, как это сказалось на судьбах русского православия и воцерковлении русского народа, на миссии русского рассеяния и будущих судьбах России. Эти историософские вопросы поднял в своем письме 60-летний русский эмигрант Михаил Васильевич Глаголев (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 85–86 об.).
В начале письма он признаётся, что уже с гимназических лет проявлял интерес к вопросам религии вообще и православия в частности. Погружение в Священное Писание, катаклизмы, вызванные революцией и Гражданской войной, эмиграция, трудные беженские годы, да и солидный возраст по-особому обострили духовное восприятие действительности. У него появилось стойкое желание активной просветительской деятельности. Последнее привело к глубокому изучению соответствующей литературы вероучительного, догматического содержания. На этом пути у него возникли справедливые сомнения в личной готовности и возможности выполнять просветительскую миссию, что на языке веры можно назвать смирением. Далее Михаил Васильевич переходит к более конструктивному посылу о состоянии православного догматического учения — не в смысле содержания (здесь он ни на мгновение не колеблется в истине), а по форме и содержанию, методологии, языку. Как, не отступая от истин, сделать
Евангелие привлекательным и понятным современному человеку? Как сделать проповедь актуальной и острой? На каком языке говорить со своими современниками? Это крайне важные вопросы для Церкви во все времена, то есть это задачи евангелизации, духовного просвещения народа как важнейшей миссии Церкви.
Первое поколение эмиграции, к которому принадлежал автор письма, еще верило в сравнительно скорое падение большевизма в России, в его недолговечность, в близкое возвращение домой. Однако М. В. Глаголев убежден, что годы гражданской борьбы, гонений на Церковь и преследования не прошли даром. Русский эмигрант задает себе резонный вопрос:
<...> что же ты будешь делать там, в России, где духовная пустыня и мрак, где воцарилась духовная готтентотия [от слова «готтентот», в смысле «язычник»] — где не просто дикие люди, никогда не знавшие о Боге Животворящем, а где — отпавшие и возненавидящие… где люди, ненависть и злоба, которые не дадут тебе даже подойти к ним? (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 85).
И далее, как нам кажется, М. В. Глаголев ставит самый главный для русского народа вопрос — о глубине и качественном уровне воцерковления, религиозного просвещения. Подчеркнем, что этот вопрос остается открытым и сегодня. Действительно ли вера глубоко проникла в «народную ткань», — или ограничивается внешней атрибутикой? Если первое, то:
<…> почему русский народ, которого Достоевский назвал богоносцем и которого литература и общественное мнение считали искателями Бога за его столетнее бродяжничество по монастырям и паломничество, — почему этот народ в массе своей с такой легкостью и таким непротивлением отошел от Православной церкви и от Бога? (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 86).
Второе важно и для дня сегодняшнего. В наши дни религиозной свободы и духовного возрождения России необходимо осознать, что на ценностях православия, на евангельском образе положительного героя строилась и созидалась наша цивилизация. Сегодня народу так же необходимо найти точку опоры для успешной деятельности и развития, и важное значение в этих поисках, безусловно, имеет обращение к историческому опыту наших предков.
Далее М. В. Глаголев ставит череду вопросов и пытается дать на них взвешенные ответы. Была ли действительно Православная Церковь душой народа, или всё ограничивалось лишь казенной необходимостью — в том смысле, что Церковь являлась государственной? Обойти данный факт в общественном дискурсе было невозможно. Если вера была в сердце народа, основанием его быта, почему он с такой легкостью и безболезненностью отрекся от нее? Неужели, ищет ответ автор, всё ограничивалось лишь государственной, т. е. идеологической необходимостью? Если вера народа не доходила до глубин, оставаясь на поверхности, то, как закономерный итог:
-
< …> при сильном моральном потрясении с легкостью отлепился русский народ.
-
< …> Значит, Христова истина, семя истинного Слова Христова не нашли себе места в сердце русского народа. Это — в массе. Мне думается, что этот факт, это наблюдение едва ли могут быть опровергнуты тысячами святительских мученических подвигов иерархов и священнослужителей (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288.
Л. 86 об.).
Далее автор приходит к принципиальным выводам и конструктивным, хотя и до некоторой степени дискуссионным предложениям. Здесь мы возвращаемся к вопросу о том, на каком языке Церковь должна говорить с людьми здесь и сейчас, чтобы ее проповедь оставалась понятной и актуальной.
Для иерархов намного ранее, а для эмигрантов уже после исхода стало очевидно, что формы и обряды Церкви не совсем понятны рядовому современнику. Поскольку М. В. Глаголев принадлежал к числу активных прихожан, он общался со многими постоянными посетителями храма. И свидетельствовал об их духовной неграмотности, непонимании службы, незнании ее составляющих. «Всё делается механически, бессмысленно, — в торжественнейшие моменты выходят, входят, разговаривают, — видимо, не понимают, не знают. И это, — отмечает автор, — в среде интеллигенции, что же говорить о простых людях» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 86 об.).
В итоге автор предлагает, как нам представляется, некие новаторские решения: те, которые в свое время выдвигали обновленцы, и те, по которым пошли протестантские деноминации — упрощение и доступность. Приведем его предложения в качестве иллюстрации искреннего желания приблизить церковное богослужение для понимания его обычным человеком. Это следующие моменты: необходимо упростить обряд, сделать его понятнее; ввести на богослужении русский язык; по возможности отказаться от традиции византийской пышности за богослужением, громогласных возгласов диаконов, партесного оперного хорового пения, однотонного заунывного чтения.
Всё перечисленное было призвано способствовать молитвенному настрою и размышлению верующих, а не удовлетворению их эстетических и музыкальных потребностей. Подчеркнем, что в этих тезисах была часть справедливых замечаний, и сегодня Церковь ищет возможность выйти из ситуации некоей архаичности служебных обрядов и непонимания языка богослужения. Это и постепенно практикуемое чтение «Апостола» на русском языке вслед за прочтением на славянском; это и совершаемые в определенные дни богослужения при открытых Царских вратах, на Рождество Христово и миссионерских Литургиях; это и отказ от партесного пения в пользу более простого, аскетичного и молитвенного, особенно в монастырях. Как видим, замечания и предложения русского эмигранта за истекшие 90 лет не потеряли своей актуальности. Нужно отдать должное, он не считает свои мысли истиной в последней инстанции, предполагает свое возможное заблуждение, но высказаны они были на фоне переживания за настоящее и будущее православия, чтобы оно не перешло в статус музейной реликвии.
В заключение Михаил Васильевич констатирует:
Теперешнее время, настоящее состояние культуры, умов и совести людской, по-видимому ищут в этой области простоты, доступности и понимания. Всякая мишура, пошлость блеска презренного металла и камней уже не импонируют современному прихожанину, христианину. Он ищет и ждет духовного чтения и истины в простоте Христова хитона (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 86 об.).
На это письмо последовал глубокий и подробный ответ митр. Антония (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 87). Он проводит разделение между интеллигенцией и простым верующим народом, и соглашается, что первая была далека от Церкви, пленяясь иностранным влиянием, а народ всегда был близок к вере. Доказательством тому служат средства, которые всегда жертвовали люди на украшение Божиих храмов, а также массовое стечение верующих на торжественные службы. Следующей актуальной мыслью является твердая убежденность первоиерарха в правильности пути не в направлении «упрощения» служб, что легко может привести к протестантизму, обезличению церковной жизни, где может остаться только форма без содержания.
-
< …> как выражается Св. Василий Великий, «или паче сократим проповедь в единое имя без самой вещи» <…> (Правило 91-е Василия Великого) (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 87).
В заключение митр. Антоний обращает внимание на то, что в храме всякий предмет имеет глубокий смысл и символику: облачения и утварь, чинопоследование богослужения и различные обряды. Чтобы понять глубину проповеди Церкви, нужно двигаться не по пути требования от нее упрощения для удобства восприятия, а по пути духовного роста и достижения тех высоких истин, которые символично изложены в храме в слове и красках.
Русская Зарубежная Церковь по мере сил осуществляла просветительское служение, миссию проповеди Слова Божия. При храмах и монастырях существовали воскресные школы для детей и взрослых, организовывались детские летние лагеря, осуществлялось проповедническое служение — как в существующих церквах, так в местах временного совершения богослужений, издавалась разнообразная просветительская литература в виде книг, журналов, газет и листков.
В переписке митр. Антония за 1934 г. тема духовного просвещения современников представлена письмами Д. Зубкова (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 88-88 об.) и Православного Центрального комитета по организации торжеств, посвященных памяти свящ. Максима Сандовича (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 89).
Д. Зубков был человеком сравнительно молодого возраста, работавшим на тяжелой физической работе. Не ограничивая свою жизнь границами последней, он был озабочен темой просвещения своих современников, особенно в молодежной среде. В свободное время он подготовил работу в области христианской апологии, т. е. защиты истины и ценностей Церкви. Попутно отметим, что подобные работы всегда актуальны и востребованы, поскольку требуют большого знания и дискуссионного, полемического настроя. Свою работу автор честно осознавал как недостаточно зрелую и тем не менее «для пользы дела» желал видеть ее опубликованной в периодической печати или отдельным изданием. Из письма следует, что Д. Зубков направил ее на рецензию митр. Антонию и получил положительный отзыв. Одобрение первоиерарха было воспринято им как благословение к дальнейшим трудам на поприще миссии.
В 1934 г. исполнялось 20 лет со дня смерти народного героя, мученика о. Максима Сандовича2. Митрополит Антоний был его учителем и покровителем. По этому случаю первоиерарха со всей почтительностью приглашали посетить праздничные памятные мероприятия, которые были намечены «в с. Чарне Горлицкого повята в первое воскресенье после дня его мученической кончины, т. е. 9 сентября н. ст.». Здесь же поднимается важная тема судьбы обители в Ладомирово, крупнейшего издательского центра всего русского зарубежья.
Одновременно центральный комитет просит Ваше Блаж. и впредь не оставлять своего покровительства над св. обителью Ладомировскою, которая для нас является твердыней Православия и русскости (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 89).
Братство в Ладомирово принадлежало к типу просветительских миссионерских монастырей и обеспечивало своей печатной продукцией большинство представителей русской эмиграции. Находясь в Словакии, братство распространяло свою миссию на весь русский мир за рубежом. Следовательно, ограничить ареал распространения рамками епархии означало нанести непоправимый урон Церкви и ее издательской деятельности. Об этом читаем следующее:
Ограничение деятельности этой св. обители рамками епархиального обслуживания явилось бы жестоким ударом для нас в борьбе за заветы о. Максима за веру православную, за русский народ (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 89).
О православной просветительской миссии в Карпатской Руси и его непростой судьбе мы узнаём также из письма участников Мармарош-Сигетского процесса3 — репрессий 1910-1914 гг. (ГАРФ. Ф.6343. Оп.1. Д. 288. Л.71). Митрополит Антоний в то время приложил немало сил к их возвращению в православие. Отрадно, что теплые отношения между ними сохранялись на протяжении стольких лет, что выражалось, в частности, в митрополичьем благословении русинского православного прихода иконой свт. Николая.
Смиренно просим, Ваше Высокопреосвященство, помолитесь Господу Богу о Карпатско-русской православной церкви, да Вашими молитвами избавит нас Господь всяческих зол (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 71).
Просвещение осуществляется не только словом, но и живописными образами. Церковь всегда с большим уважением относилась к иконописи и к труду иконописцев. В этой связи стоит упомянуть о любопытной переписке митр. Антония с известным художником Николаем Константиновичем Рерихом, который пробовал себя в этом виде церковного искусства (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 90–91). Первоиерарх следил за его иконописным творчеством, одобрительно отзывался о его работах, давал ценные советы.
Я с интересом прочитал очерк о Ваших трудах на поприще иконописи, конечно, давно мне известных и, как Вы знаете, очень ценимых. Также и статья Ваша мне понравилась. Дай Вам Бог все укореняться в Православии и выявлять его в своих творениях (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 90).
Известный художник, в частности, писал:
Высокопреосвященнейший Владыка, весьма драгоценным для меня было недавнее письмо Ваше. Рад сообщить, что как правящий архиепископ Мелетий, так и архиеп. Нестор, окружают меня здесь заботливым вниманием, чем премного способствуют моей работе во благо нашей Родины и храмостроительства. Представляю Вам при сем мою недавнюю статью «Спас», снимок с моей последней картины «С нами Силы Небесные, ныне невидимо сослужат», и снимки с моего проекта деревянной церкви в Бариме, селение в Маньчжу-Ти-Го, а также оттиск статьи Шмидта о моем религиозном творчестве. Я очень рад, что в очерке из биографий моих подчеркнуто упоминание Вашего светлого имени, ибо я всегда с особой сердечной устремленностью вспоминаю Ваши многоценные для меня указания и радушные споспешествования моим работам <…> (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 91).
Еще одной важной темой в переписке митр. Антония являлась тема социальной адаптации и трудоустройства представителей русской эмиграции. Лига Наций много делала для российских беженцев, занималась их расселением по странам, поиском работы, а также урегулированием их личного статуса как особой категории иностранцев, оказывала материально-финансовую поддержку. «Однако для реализации ее [Лиги Наций] инициатив нужна была добрая воля государств-реципиентов» [Бочарова, 2011, 127]. В свою очередь, власти часто придерживались тактики соблюдения национальных интересов, в противовес общегуманитарным задачам. С юридической точки зрения ситуацию, в которой с самого начала оказались беженцы из России, можно охарактеризовать как правовой хаос. «Вместе с тем, — как отмечают современные исследования, — эмигрантскому сообществу в лице соответствующих учреждений местными властями неофициально были предоставлены представительские полномочия» [Бочарова, 2011, 163]. Различные российские общественные организации ближе всех стояли к нуждам конкретного человека, и именно через них реализовывалась защита профессиональных прав русских беженцев. Свой вклад в решение этой задачи вносила и Русская Зарубежная Церковь. В частности, митр. Антоний давал положительные характеристики тому или иному лицу, и эти отзывы были авторитетны в глазах работодателя. Упомянем в этой связи характеристику, данную Юрию Александровичу Васильеву: «Может быть рекомендован на службу в любое учреждение, а особенно может быть полезен в учреждении церковном» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 47). Под характеристикой подразумевался целый пакет документов — отзыв о Ю. А. Васильеве на сербском языке, краткая характеристика, подписанная митр. Антонием, а также сопроводительное письмо о рекомендации Ю. А. Васильева на сербском языке.
Церковь оказывала посильную помощь русским эмигрантам в нелегких вопросах определения их социального статуса, трудоустройства, защиты прав в трудовых отношениях. К примеру, под покровительством Церкви был организован Совет Федерации Союзов русских трудящихся христиан во Франции, который на регулярной основе проводил свои сессии. На них рассматривались все вышеперечисленные вопросы, в том числе обучения новых кадров, переобучения существующих, повышения квалификации. Отметим, к примеру, что 23–24 декабря 1934 г. в г. Виши прошла Третья сессия Совета Федерации Союзов русских трудящихся христиан во Франции. Председатель Александр Ильич (к сожалению, фамилию установить не удалось) при своем письме препроводил митр. Антонию резолюцию совета:
Его Блаженству, Блаж. Митр. Антонию. Совет Федерации Союзов русских трудящихся христиан во Франции, собравшись на свою Третью сессию, просит Ваше Блаж[енство] принять выражение его глубокого почитания вместе с пожеланиями сил и здоровья для продолжения Вашего святительского служения (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 288. Л. 80).
Первоиерарх сердечно поблагодарил лично председателя Александра Ильича и возглавляемый им Совет Федерации Союзов русских трудящихся христиан во Франции за выраженные чувства и благопожелания. Всё это говорит о высокой степени ответственности и заботы Церкви за рубежом не только о духовном благополучии своей паствы, но и о материальной стороне жизни.
Рассмотренная переписка председателя Архиерейского Синода и первоиерарха Русской Православной Церкви за границей, крупнейшего духовного авторитета митр. Антония (Храповицкого) с верующими возглавляемой им Церкви принадлежит к важным источникам по истории русской церковной эмиграции. Она позволяет выявить комплекс социально-общественных проблем, которые характеризуют внутрицерковную жизнь в указанный период. Это поиск смыслов русского исхода, миссии российской эмиграции в мире, а также преодоление трудностей, возникших на беженском пути, — расколов в самой церковной эмиграции и непростых взаимоотношений с Московской Патриархией, решение вопросов материального обеспечения Церкви и духовенства, процедура определения общественного статуса российских беженцев в странах-реципиентах, их трудоустройство и социальные гарантии, строительство церковной жизни на местах, просветительские задачи.
В решении перечисленных вопросов прослеживаются следующие характерные особенности: понимание всеми участниками переписки своей ответственности за судьбу Церкви в изгнании и глубокие личные переживания о недавних событиях прошлого и дня сегодняшнего, осознание Церкви за рубежом как последнего и единственного оплота и напоминания об Отечестве, русских традициях и культуре. В ходе дискуссии участники исходят из постулатов православного учения и общецерковных канонических норм, ясно понимая неслучайность свершившихся событий.
Рассмотрев подробности формирования и развития внутрицерковной жизни наших соотечественников в 1930-е гг., можно утверждать, что этот исторический опыт церковного строительства безусловно актуален и сегодня.
Список литературы Социально-общественные проблемы русской церковной эмиграции в переписке митрополита Антония (Храповицкого) 1934 г.: обзор и характеристика (по материалам Государственного архива Российской Федерации)
- ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р6343. Оп. 1. Д. 288.
- Бочарова (2011) - Бочарова З. С. Российское зарубежье 1920-1930-х гг. как феномен отечественной истории. М.: АИРО-ХХI, 2011. EDN: SUFEVL
- Зайде (2022) - Зайде Г. Исторический путь Русской Православной Церкви: К истории русского рассеяния: 1917-1945 гг. (Становление и развитие РПЦЗ) / Сост. и отв. ред. иером. Никодим (Хмыров); пер. с нем. Т. Е. Донцова; коммент. О. В. Кузьмина, иером. Никодим (Хмыров). СПб.: Изд-во Сергея Ходова; Крига, 2022. 320 с.
- Коростелев, Караулов (2019) - Коростелев В. В., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории. М.: ПСТГУ, 2019.
- Кострюков (2018) - Кострюков А. А. Лекции по истории Русской Церкви (1917-2008): Учеб. пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018.
- Никодим Хмыров (2019) - Никодим (Хмыров), иером. Русская Зарубежная Церковь: Дела. События. Факты. 20-е годы ХХ в. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2019. 352 с.
- Никодим Хмыров (2021а) - Хмыров Д. В. (иером. Никодим) Православная Церковь по обе стороны советской границы (Журнал РПЦЗ "Церковные ведомости" 1922-1925 годы). СПб.: Изд-во РХГА, 2021. 233 с.
- Никодим Хмыров (2021б) - Никодим (Хмыров), иером. Роль Сербского Патриарха Варнавы в преодолении юрисдикционных разделений Русской Православной Церкви за границей // Христианское чтение. 2021. № 3. С. 408-428.
- Хмыров (2014) - Хмыров Д. В. Спорные вопросы истории РПЦЗ (1920-1945). СПб.: СПбГУ, 2014. 480 с. EDN: SGATLF
- Хмыров (2016) - Хмыров Д. В. Русская Православная Церковь за границей в 20-е годы XX века: по материалам заседаний Архиерейского Синода и журнала "Церковные ведомости". СПб.: СПбДА, 2016. 488 с. EDN: WCXBGZ