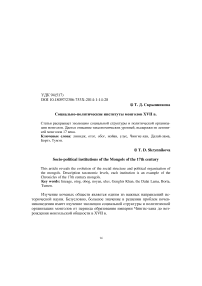Социально-политические институты монголов 17 в
Автор: Скрынникова Татьяна Дмитриевна
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья раскрывает эволюцию социальной структуры и политической организации монголов. Дается описание таксономических уровней, выдержки из летописей монголов 17 века.
Линидж, отог, обог, нойан, улус, чингисхан, далай-лама, бортэ, тумэн
Короткий адрес: https://sciup.org/148315710
IDR: 148315710 | УДК: 94(517) | DOI: 10.18097/2306-753X-2014-1-14-28
Текст научной статьи Социально-политические институты монголов 17 в
Изучение кочевых обществ является одним из важных направлений исторической науки. Безусловно, большое значение в решении проблем кочев-никоведения имеет изучение эволюции социальной структуры и политической организации монголов от периода образования империи Чингис-хана до возрождения монгольской общности в XVII в.
Мы уже отмечали1 тот факт, что сложность интерпретации терминов социальной структуры состоит в том, что одними и теми же терминами обозначались как таксоны, маркирующие кровное родство, так и таксоны потестар-ной структуры: уруг – это и линидж, и минимальная хозяйственноэкономическая единица (tögüm / bölög / uruγ / аuruγ); обог – род и как коллектив кровных родственников, и как территориальное (территориальноадминистративное) сообщество, осуществлявшее общую экономическую деятельность; иргэн – это таксон, маркирующий племя двух видов: как один из типов этнических общностей (совокупности родственных родов) и как специфическая форма социальной организации (надобщинная потестарно-политическая структура). Причем в последнем значении термин иргэн мог обозначать как вождество, так и политию. Двойственность терминов языка описываемой культуры, в данном случае политической, породила и заблуждения исследователей в интерпретации социальных феноменов, поскольку зачастую при их реконструкции анализ социальной структуры строился на выявлении взаимосвязей между таксонами разного ряда.
С распадом Монгольской империи в течение нескольких веков существования монголов лишь в качестве локальных сообществ, борющихся за власть между собой и с ойратами, произошли изменения в обозначении тех структур, в которые они объединялись. Большой интерес представляют материалы хроник XVII в., отразивших свое время, когда монголы отметились на политической арене как активные политические акторы. Все хроники этого периода содержат данные, в которых обосновывается право на власть, легитимность которой определяется генеалогической связью с родом Чингис-хана2. Именно эта направленность хроник определила то, что употребление терминов социальной организации связано прежде всего с группами, в той или иной степени имеющими отношение к властным структурам.
Можно говорить о том, что если базовая единица социальной структуры – линидж – в монгольской среде периода формирования империи обозначался разными терминами3: токум (tögüm), булаг (bölög), ураг (uruγ/ауруг), то в летописях XVII в. первый термин не встречается, а употребление второго сохранилось только при описании периода сложения империи Чингис-хана. Как и в ТИМ, где линидж, откочевывавший с Хорилартай-мэргэном у Бурхан Хал- дун, назывался tede bölök irgen4, в АТ5 мы встречаем практически то же самое обозначение этого линиджа – nigen bölöge irgen6 («люди одного линиджа») или nigen bölög7 («один линидж») в ЕТ, а также обозначение nigen bölög oγorčaγ ulus8, т.е. «люди-сироты одного лидинджа», с которыми встретился Бодончар. Можно говорить о том, что термин применялся не только по отношению к правящему роду. Возможно, в данном случае эта группа людей отмечается как минимальная хозяйственно-экономическая единица.
Что же касается термина uruγ , то и его частое употребление в хрониках XVII в. связывается прежде всего со временем сложения империи и ее властной элиты, когда нужно был четко фиксировать генеалогическую преемственность претендентов на власть. После распада Монгольской империи уже не воспроизводились столь подробно генеалогическое древо монгольских правителей и их принадлежность к определенному коническому клану, что подтверждало бы их легитимное право на власть: сама принадлежность к потомкам Чингис-хана уже обеспечивала это право, поэтому необходимо было только указать на принадлежность к той или иной линии. Маркировка принадлежности кого-либо к определенному линиджу встречаются изредка. Например, «линидж борджигин – потомок хагана» [ET. P. 122] и Молан-хаган золотого уруга [ET. P. 118], отмечаются «потомки Даян-хагана, ханские уруги» [ET. P. 134], и «Хубилай-Сэцэн-хаган в уруге Чингис-хагана… родился» [ET. P. 150], как и «Далай-лама Йондан-джамцо родился в нашем ханском уруге» [ET. P. 179]; или Догалан-тайджи линиджа хачигин [ET. P. 119] и «Багасун-табунан 9 из нойонского уруга Халхи пяти отоков» [АТ 1952. Р. 102]. Хотя чаще в хрониках XVII в. для констатации того, что правитель не оставил потомства употребляется форма ür-e-ügei, иногда использовался термин ( uruγ-ügei ) [ET. P. 102]. Последнее даже подтверждалось народной мудростью – «если закроется уруг, [то он] опустится (вероятно, его роль, значение снизится. – Т.С.)» [ET. P. 109].
Упоминается уруг и в отношении «иных», также принадлежавших к властной элите. Например, упоминается, что «в уруге маньчжурского Алтан- хагана родился Нурхаци-багатур-тайсуй» [ET. P. 182], т.е. термином уруг всегда отмечается линидж – кровное родство.
Как замена термина уруг в маркеровке родства появляется термин törül . «Будет ли думать о нас (man-u törül [АТ 1952. Р. 140]) человек, не думающий о своем собственном роде (öber-ün törül [Ibid.])» [АТ 1972. С. 265]. В качестве примера можно привести описание человека, вышедшего на бой с представителем ойратов: borjigin törültei dörbeljin ulaγan kümün [АТ 1952 Р. 140] – квадратный красный человек, борджигин по рождению. У слова törül нет такой терминологической определенности, как у термина уруг - линидж . Оно могло обозначать любое родство или принадлежность к определенному классу предметов и пр.
Следующей формой социально-политической организации является структура более высокого таксономического уровня, обозначаемая в источниках XVII в. терминами обог , омог , отог . Термин обог , как и предыдущие термины, обозначавшие линидж, встречается в той части хроник, которые описывают образование Монгольской империи и формирование властвующей элиты, а именно Чингис-хана и его предков/потомков. Но и тогда обог не выступает субъектом деятельности, мы не встречаем его в качестве самостоятельного актора: его символом или маркером, как правило, выступает его глава – прямой потомок основателя рода по старшей линии. С одной стороны термины этого ряда по-прежнему отмечают кровное родство: Родился Бодончар кости Хигут омога Борджигин (kiγut yasutai borjigin omoγ-tai bodončar [AT 1952. P. 186]), с другой стороны, все больше он обозначает род как территориальную или административно-территориальную единицу.
Актуальным для XVII в. термином, обозначавшим принадлежавшие правителю владения, становится термин отог10. Также как и обог, отог не выступает субъектом деятельности, более того, он является объектом манипулирования властвующей элиты. Так, например, после подчинения барун-тумэтов хорчин Ордахухай-онг сказал Даян-хагану: «“Возьмем и разделим три тумэна барун-[тумэтов]. …Присоедини семь отоков харачин [из барун-тумэтов] к семи отокам харачин нашего великого [рода]11 йонгшийэбу. Основой были восемь отоков Ордоса. Присоедини к ним восемь отоков чахар. Соедини двенадцать отоков тумэтов с двенадцатью отоками Халхи”. Но Дайан-хаган не согласился со словами онга и посадил управлять тремя тумэнами барун-[тумэтов] своего сына Барсу Болад-джинонга» [АТ 1972. С. 287]. Правители владели подданными и действительно могли распоряжаться ими. Когда Болху-джинон был ребенком и ойраты хотели его пленить и уничтожить, «ойратские нойаны сказали (Элиэ Нагачу. – Т.С. ): “Ты этого ребенка догони, возьми и приведи. Получишь за то аил людей и жеребцов”» [AT 1972. P. 274].
Можно с большой долей уверенности говорить о том, что термином отог обозначалась мобильная административно-территориальная структура, т.е.подчеркивалось прежде всего то, что это была группа людей , привязанная к определенной территории и маркируемая этнонимом без какого-либо таксона. Но главное, ее можно было заставить перекочевать в другое место, если была на то воля верховного правителя, в выше упомянутом примере – Даян-хагана. Безусловно, отог был гетерогенным в этническом смысле, что демонстрирует следующий текст: «Ордагудай-онг, его сын Бурхай, урианхан Баяха-багатур, Сайн Чахича-багатур из тáбуна хорчинского, и Багасун-табунанг из уруга нойонов Халхи пяти отоков руководили хошунами [АТ 1952. Р.102. АТ 1972. С. 286]». Упоминание Багасун-табунанга из уруга нойонов Халхи свидетельствует о том, что властвующая элита, стоящая во главе отоков, этнически маркированных, хранила память о своей принадлежности к роду Чингис-хана и именно ее этнический маркер давал имя всему сообществу. Полиэтничность союзов подтверждается примерами из жизни Мандухай Сэцэн-хатун: «Отцом Манду-хай-хатун был Чоросбай-Тэмур-чинсанг отога энггуд из тумэд [АТ 1952. Р. 87. У Шастиной неправильно: с. 273]». Когда Мандухай Сайн-хатун была в третий раз беременна близнецами (Вачир Боладом и Алчу Боладом), на девятом месяце, она напала на ойратов. Ее защитил в бою своим телом Сайн Сайхан из ото-ка Барагуд, а балгачин Баян Бухэ и асут Бату Болад посадили ее на коня и вывезли с поля сражения [AT 1952. P. 164]. После того как под руководством Мандухай-хатун шесть тумэнов победили ойратов, хорчинский Болад-онг сказал: «Буду возжигать твой огонь, буду управлять твоим отогом» [АТ 1952. Р. 93. АТ 1972. с. 278]. Слова Болад-онга указывают на связь отога с родовым ог-нем/очагом, т.е. с родовой территорией.
Связь отога с определенной родовой принадлежностью лидера просматривается и в истории с Болунаем, когда Харагчин Дайбучин, наставляя Болу-ная/Болухая в том, как скрыть свое происхождения, советовала ему говорить, что он «не знает ни отца, на матери, ни отога, ни аймака» [АТ 1952. Р. 82].
Несколько отоков составляли более крупные структуры, также этнически маркируемые: тумэд, юншиебу, харачин, чахар и др., характер которых определить довольно сложно. Можно предположить, что, несмотря на указанную выше зависимость от правителя, получившего верховную власть, эти крупные этнически маркированные структуры были достаточно самостоятельными по-литиями, носившими имя лидировавшего этноса и занимавшими определенную территорию. Единожды удалось обнаружить следующее словосочетание: «yüngsiyebü-yin jiqa-yin ulus-tur kürčü» [АТ 1952. Р. 91]. Речь идет о том, что, когда Болху-джинон вместе с Болаем отправились в землю Бурбуг, они «достигли людей окраины юншиебу». Эти политии, как мы видели и выше, состояли из оттоков. Есть упоминание женщины по имени Отай, принадлежавшей к одному из восьми чахарских отогов – Хулибад (čaqar-un qulibad otoγ-un otai [AT 1952. P. 157]). Баян-Мункэ Болху-джинон был убит людьми из пяти ото-ков юншиебу: Кэриэ, Чаганом, Тэмуром, Мункэ и Хара Батаем [АТ 1952. Р. 92. АТ 1972. С. 276].
Согласно Алтан тобчи (1952) хорчинские владения, с одной стороны, обозначались как аймаг, с другой стороны, представляли собой объединение 18
хошунов: «Потомки Толуя были монгольскими ханами. Потомки Хасара, начиная с Шира-хана, были нойанами аймака хорчинов; ныне Тулиэту-цин-ванг хорчинского западного крыла владеет пятью хошунами. Дзоригту-цин-ванг восточного крыла владеет пятью хошунами ; И еще один, Ару-Хорчин, три урата, Четыре Хухэда, Муминган – эти шестнадцать хошунов принадлежат потомкам Хасара» [AT 1972. P. 294].
Здесь мы видим обозначение административно-территориальной общности «хорчины» как аймак, но чаще всего в хрониках XVII в. этнические наименования упоминались без указания социального таксона: линидж, род или племя. Например, хонгиратка, супруга Ухагату-хагана [AT 1952. P. 124], монгольские юншиебу [AT 1952. P. 148], балгачин Бахай и борбугский Хагацай Болотай [AT 1952. P. 156] и т.д.
В результате постоянного дробления владений, которые удалось собрать Мандухай Сэцэн-хатун и Даян-хану, появилось множество сыновей, внуков и правнуков, что можно обозначить как «перепроизводство элиты», что, безусловно, порождало постоянные столкновения в борьбе за лидерство. И, как сообщает анонимная хроника Алтан Товчи, потомки Даян-хана владели и управляли сообществами разного уровня: «Сыновьями Арсу Болада … Сын Буджи-гира был нойаном [рода] дартэй. Его потомки были нойанами в семи тумэнах Ордоса. …Потомки Алчу Болада были нойанами ногон-багаринов. Сыновьями Вачир Болада были кэшиктэнский Дари-тайджи и тайджи пяти отоков Хал-хи. Сыновьями Албура были Ачу и Шира, их потомки были нойанами цаган-татар. Сыновьями Чинг-тайджи были Тунгши и Чингли, их потомки были ной-анами хара-татар. …Потомки Джалаир-тайджи были нойанами семи хошунов Халхи. После того как государство разделилось, над народами владычествовали так: Мэргэн-Хара-джинонг в Ордосе, Алтан-хаган в Тумэте, Хундэлэн-хаган в Хорчине, Лабуг-нойан в Угушине, Нарин-нойан у цаган-татар, Бодида-ра в Йонгшийэбу» [AT 1972. P. 295]. Представляет интерес начало предыдущего предложения – «после того как государство разделилось, над народами владычествовали», которое более точно можно перевести так: «еще потом разделились и владели улусами (“каждый своим улусом” – ulus ulus-i ejelegsen)» [AT 1972. P. 295]. Как мы видим, общности, возглавляемые потомками Даян-хана, были разноуровневыми: часть из них обозначалась лишь этнонимом без какого-либо таксономического маркера, другие имели конкретные наименования: отог, хошун, тумэн. Учитывая разное обозначение владений потомков Даян-хана, названных обобщенным словом улус, можно с большой долей уверенности говорить о том, что и в XVII в. оно еще не несло в себе определенного жесткого значения – государство.
В идентификационных практиках XVII в. термин «улус» часто встречается со словом «монгол», который также употребляется для обозначения территории проживания монголов – «Mongγol-un γajar» («монгольская земля»), может быть даже в смысле «страны» («страна монголов»)12. Это понятие использовалось как для характеристики предшествовавшего периода, так и для описываемого настоящего. Сакья-пандиту пригласили распространять буддизм «в монгольской земле» (монг. «kijaγar Mongγol-un γajar-a») [Ibid. P. 82]. Далай-лама III отметил, что в монгольской земле много луусов, шимнусов, онгонов и пр. [Ibid. P. 148]. Упоминается распространение «ханского рода на монгольской земле Бэдэ» (монг. «Bede mongγol-un γajar-a qad-un uruγ» [Ibid. P. 46]).
Естественно, самый ранний период, к которому относится словосочетание «mongγol ulus», это эпоха Чингис-хана. Согласно Саган-Сэцэну, Чингисхан заявляет, что с этого времени «Köke mongγol» будет называться Köke ulus mongγol (Köke mongγol ulus) [Ibid. P. 56]. Неустойчивость словосочетания (разное написание в разных версиях ЕТ) позволяет предположить, что данный идентификационный маркер еще не закрепился в политической практике XVII в. Первый вариант трудно поддается переводу, поскольку термин «ulus» не оформлен грамматически. Если бы он был в родительном падеже, то можно было бы перевести его как «монголы синего улуса». Второй вариант может иметь два значения. Первое – «улус синих монголов» (в значении политии), и второе – «синие монголы» в значении «народ». Возможность второй интерпретации подтверждается и следующим пассажем, также относящимся ко времени Чингис-хана. В речи сунитского Гилугэн-багатура, обращенной к последнему, упоминается «увеличивающиеся в числе (разрастающиеся) подданные – монгольский народ твой» (монг. «urγumal aγul albatu Mongγol ulus cinu» [Ibid. P. 82]). В данном контексте словосочетанием «Mongγol ulus» совершенно определенно обозначаются люди, поскольку оно сопровождается определением «те, которые приносят дань».
Словосочетание «Mongγol ulus» в тексте «Эрдэнийн товчи» встречается довольно часто. В период «малых ханов» ойратский Батула-чинсанг убил монгольского Элбэг-хагана, захватил его сына Олдзэйту-хунтайджи и « подчинил себе большую часть монгольского народа» (монг. « Mongγol ulus-un yekengki -gi anu oroγuluγsan ajuγu» [Ibid. P. 101]. Здесь «Mongγol ulus» может нести в себе оба смысла и выступать как в качестве политонима «Монгольский улус», так и в качестве этнонима (монгольский народ/монголы). «Mongγol ulus» является объектом действия и имеет амбивалентное значение также в следующих двух контекстах: «Монгольский улус силой возьму » (монг. « Mongγol ulus kücün-iyer buliyaju odumu» [Ibid. P. 179]); «так как я не хочу навредить монгольскому улусу, а ты думаешь о торо, требуй своих нойонов миром» (монг. «bi Mongγol ulus-tur maγui ülü kikü-yin tula : ta törö-yi sanaju : noyan-iyan eye-ber ne-kekü bügesü» [Ibid. P. 183]). В данных случаях речь может идти о Монгольском улусе как о политии, так и о монголах как об этнической общности в противовес ойратам.
Впоследствии во времена Эсэху-хагана у ойратов тайком выкрали Олд-зэйту-хун-гоа, Адзай-тайджи и Аругтай тайши и «отправили их к их родственникам к монголам» (монг. «törküm-dür-iyen Mongγol ulus-tur ileger-ün» [Ibid. P. 103]. Этот последний случай также связан с понятием «народ, люди» и имеет этнические коннотации, поскольку подчеркивает кровнородственную связь. Можно с большой долей уверенности приписать это последнее значение понятия и в следующем случае, поскольку речь идет о собирании множества, т.е. людей, народа: «После этого в короткий срок собрали монгольский народ» (монг. «tegünü qoyina Mongγol ulus qoromqan jaγur-a tökögerün büküi-e» [Ibid. P. 102], и ханом стал старший сын Элбэг-хагана Гун-Тэмур, который правил три года.
Безусловное значение словосочетания «Mongγol ulus» как «монгольский народ/монголы» отмечается и в других контекстах. Например, в поговорке: «У монголов мудрости мало, гордости много» (« Mongγol ulus -un bilig ücüken : omoγ yeke» [Ibid. P. 166]). Другой пример связан с ситуацией, когда Далай-лама приехал в Монголию и «увидел своими глазами, как грешит монгольский народ» (« Mongγol ulus-i nigülesküi-yin nidün-iyer üjen» [Ibid]). Следует обратить внимание на то, что здесь «Mongγol ulus» выступает субъектом действия, как и следующем случае: «в то время как монголы опасались за свои окраины» (монг. «jaq-a-daki Mongγol ulus emiyejü yabun atala» [Ibid. P. 183]).
Безусловно, «Mongγol ulus» выступает в качестве политонима в случаях, когда приводится сравнительное обозначение Монголии – прежней (сорок тумэнов) и периода XVII в. (шесть тумэнов): «если разрушить нынешний улус шести тумэнов, оставшихся от Монголии прежних сорока тумэнов» (монг. «er-ten-ü döcin tümen Mongγol ulus-aca ülegsen: eneküken jirγuγan tümen ulus- i ebde-besü» [Ibid. P. 131]. И сорока тумэнный монгольский улус, и шести тумэнный улус являются объектами влияния внешних субъектов: их можно разделить, оставив часть; их можно разрушить.
Вышеуказанные примеры постоянно демонстрируют неразрывную связь улуса с правителем. Отсутствие границы между правителем (ханом/хаганом) и его владением (улусом) свидетельствует об антропоморфизации политической власти. В данном случае владение (улус) выступает в качестве его богатства, с одной стороны. С другой стороны, улус, как сообщество подданных, является объектом, к которому хаган проявляет патерналистские отношения в качестве «владыки» (ejen / qan ejen / qaγan ejen / ulus-un ejen /ejen boγda / tenggelig boγda ejen), обозначаемого как «хаган-отец» (qaγan ecige [Ibid. PP. 13, 186]). Вышеперечисленные термины, безусловно, указывают на то, что правитель является владельцем, хозяином улуса, что, вероятно, произошло от первоначального обозначения владения кем-либо или чем-либо, например, домохозяйством. Даже послы воплощали частичку статуса правителя и обозначались не как посланники страны, а как его представители. Так, прибывшие к Далай-ламе послы из Китая и от чахаров обозначаются как «послы китайского минского императора Ванли… послы чахарского Тумэн-хагана» (монг. «Kitad-un Daiming Vanli qaγan-u elcis… Caqar-un Tümen qaγan-u elcis» [Ibid. P. 165].
Выражение ulus-un ejen , которое можно интерпретировать как «владыка улуса», является распространенным словосочетанием: Magada ulus-un ejen [Ibid. P. 11]; Kaci ulus-un ejen [Ibid. P. 12]; «владелец улуса, называемого “Монгольский”, перерожденец бодисатвы, хаган по имени Годан» (монг. «Mongγol kemekü ulus-un ejen anu bodisadu-yin qubilγan Köden neretü qaγan» [Ibid. P. 84]); «Пусть Даян владеет улусом… [сказала Мандухай и] воспитала владыку улуса Даян-хагана» (монг. «dayan ulus-i ejelekü boltuγai …ulus-un ejen Dayan qaγan-i ükertür tegejü») [Ibid. P. 123]. Рассмотрим, владение чем отмечает источник?
Как видим, констатация статуса хагана как владыки (владель-ца/господина) улуса сопровождается фиксацией факта владения ( ulus-i ejelekü ) или овладения ( ulus-i abcu ) улусом. Так, тангутский Шидургу-хаган сказал: «Я владел всем улусом до недавнего времени, я ли не хаган» (монг. «qamuγ ulus-i ejelen baraγ-a edüi-e : qaγan buyu bi» [Ibid. P. 69]; Чингис-хан говорит: «владею моим внешним пятицветным улусом» «γadaγadu tabun öngge ulus-i minu ejelejü» [Ibid. P. 75], которые он завоевал и стал владыкой, что следует из следующего текста: «владыка-богдо по имени Темучжин [сказал]: “пойду, захвачу улусы разных сторон (досл. там-сям расположенные. – Т.С. )”» (монг. «ejen boγda Temüjin kemekü : endeki tendeki ulus-i abcu yabunam» [Ibid. P. 71]. О То-гон-Тэмуре сообщается, что он «властвует во внешнем улусе» (монг. «γadaγatu ulus-tur ejerken yabuqu» [Ibid. P. 91]).
Что обозначалось словом улус ?
Прежде всего, следует отметить те случаи употребления термина, которые несут его первоначальное значение – народ, люди. Наиболее показательными являются фразы: «Тот самый народ страны Шамбала» (монг. «Šambala-yin oron-u terekü ulus» [Ibid. P. 174]), где эксплицитно названы жители страны. Подобное значение можно отметить и в следующем случае: «Подвластные люди (подданные. – Т.С. ) местности Гамсу во множестве приняли великую добродетельную парамиту (монг. «Гamsu-yin γajar-tur qariyatu ulus : caγlasi ügei yeke buyan barmaid-I ergün» [Ibid. P. 160]). Не вызывает сомнений значение термина улус и в пересказе известного сюжета, связанного с Бодончаром, жившим среди людей, у которых не было правителя и которые впоследствии стали подданными монголов. Саган-сэцэн пишет: «У тех людей спросили… когда на тот безродный народ напали и захватили» «tere ulus-aca surabasu… tere oγorcaγ ulus-i duγulju abqui-dur» [Ibid. P. 49]. Безусловно, то же значение отмечается и в том случае, когда Есугэй сосватал Темучину невесту и, оставив его там, сам отправился домой. В это время «татары (татарский народ. – Т.С. ) устроили пир» (монг. Tatar ulus qurimlan [Ibid. P. 51]), Есугэй «вошел в юрту дружественного народа» (монг. «amaraγ ulus-un gerte oroju» [Ibid. P. 52]), где его, как известно, отравили. Упоминаются народы кочующие «ködelkü ulus» [Ibid. P. 153] и оседлые «saγuqui ulus» [Ibid. P. 72].
Народ можно захватить ( abqu ) («захватили тридцать одно кочевье и людей» «γucin nigen nutuγ ulus-i abcu» [Ibid. P. 58], где, как видим, раздельно упоминаются люди и территория, на которой они кочуют. А когда речь идет о военном походе Алтан-хана на Тибет, то сообщается, что он «захватил людей» (монг. «ulus irgen kiged-i aγulju abun» [Ibid. P. 139]), на что прямо указывает парное слово ulus irgen - люди. В значении захватить используется и другой 22
глагол – buliyaqu. «Монголов захвачу силой» (монг. «Mongγol ulus kücün-iyer buliyaju odumu» [Ibid. P. 179]). О том, что улус – это люди, свидетельствует и следующая фраза, сообщающая о том, что он «разграбил и захватил людей и скот» (монг. «ulus mal-i talaju abun» [Ibid. P. 141]). О захвате людей говрится в тексте, рассказывающем о военном походе Алтан-хана на ойратов, когда он, убив Мани-минггату, «захватил всех людей» (монг. «ulus bügüde-yi oroγulju abuγad» [Ibid. P. 138]) вместе с его вдовой – Джигэхэн-ага-пукпуш и сыновьями Тохоем и Бохэгутэем. Здесь глаголу abqu сопутствует глагол oroγulqu (приводить), что, безусловно, отмечает факт пленения людей во главе с их ханшей и принцами. В значении привести кого-либо в свои владения используется и глагол tataqu (тянуть): «поскольку народ привели издалека» (монг. «qola-yin ulus-i tataqu-yin tula» [Ibid. P. 60]). Можно также «привести людей [рода] уд-жиед» (монг. «Üjiyed ulus kürgejü» [Ibid. P. 187]. Именно о людях идет речь, когда обсуждается вопрос, как их делить после смерти правителя в случае отсутствия прямых наследников. У Алтан-зула-хатун, жены Бадма-самбау, детей не было. «Как мы будем делить людей, принадлежавших Бадме?» «Badm-a yügen ulus-i bida yakin qubiyamui» [Ibid. P. 138]. С народом можно объединяться и его собирать : «Старшие и младшие братья (принадлежавшие к Золотому роду. – Т.С. ) соединились со своим великим народом» (монг. «aq-a degüü yeke ulus-luγaban neyileldün») и «собрали весь народ» (монг. «narmai yeke ulus-i quriyan cuγlaγulju» [Ibid. P. 181]) во главе с великими и малыми нойонами ор-досского тумэна. Причем правящая верхушка, как мы видим, отделена от народа, на что указывает и случай с пленением Дзайсан-нойона и преследованием его ханши, сыновей и людей (монг. «qatun köbegüd ulus inu nekejü kelelceküi-e» [Ibid. P. 183]).
Завоевания ведут к приумножению подданных: «приумножить людей, которые платят дань» (монг. «albatu ulus oldaqu» [Ibid. P. 57]). Хонгирадский Вчир-сэцэн сказал: «Владыка мой, …пусть твоих подданных будет много» (монг. «ejen minu …albatu ulus cinu elbeg boltuγai» [Ibid. P. 69]). Для обозначения подданных, которые платят дань, используются разные термины. Так, Чингис-хан говорит: «весь подданный народ мой» (монг. «yerüngkei albatu yeke ulus minu» [Ibid. P. 75]). В своей речи перед смертью он, перечисляя самое ценное в его жизни, разделяет народ и землю: «подданный народ мой, любимая земля моя» (монг. «qaralmai ulus minu : qairan γajar minu» [Ibid. P. 80]). Улус можно разорить (ebdekü). Так, ордосские монголы напали на приграничный район Китая и «разорили земли и людей» (монг. «γajar ulus-i inu ebden yabuqui-dur» [Ibid. P. 182]). Когда Алтан-хан пошел на Китай и «разорил земли и людей, китайцы (китайский народ) очень испугались» (монг. «γajad ulus-i inu ebdejü jobaγan yabuqui-dur : Kitad ulus yekede ayuju» [Ibid. P. 138]. После чего он получил от китайцев титул и золотую печать.
Как видим, подданные обозначаются и другим термином ( qaralmai ), который употребляется неоднократно. Бортэ говорит: «Не любовь ли Борте, не смелость ли подданных – сила моего хана-владыки? (монг. Börte jüsin-ü duran buyu : qaralmai yeke ulus-un joriγ buyu : qan ejen-ü man-i kücün bui j-e» [Ibid. P.
60]. О Чингис-хане говорят, что «августейший владыка проявляет любовь к своим подданным» (монг. «boγda ejen qaralmai ulus-taγan qayira kijü» [Ibid. P. 73]). Показателен также плач сунитского Гилугэна по смерти Чингис-хана, в котором неоднократно упоминаются подданные, страдающие после смерти владыки: «подданный великий народ твой рассеялся» (монг. «qaralmai yeke ulus cinu qaγ-a kereg tarqam|j-e»), «подданные твои стали ничтожными» (монг. «albatu ulus cinu ecügüyidem j-e»), «любимый великий народ твой рассеялся» (монг. «qayiran yeke ulus cinu tarqam|je» [Ibid. P. 80]). На то, что улус означает множество, а не государство, указывает фраза из этого плача: «Весь великий народ оплакивает тебя» (монг. qamuγ yeke ulus anu küilen qayilan yabuqui-a [Ibid. P. 81]).
В последних примерах термином ulus , безусловно, обозначается народ, люди, которые рассеивается , уменьшаются , плачут . Следует также отметить, что в этих примерах, в отличие от прежних, где улус выступал как объект, на который направлены действия разных акторов, народ является субъектом действия. Примеры, где народ, люди выступают субъектами действия можно продолжить. Уже упоминались монголы, которые опасались нападения на окраинах (монг. «jaq-a-daki Mongγol ulus emiyejü yabun» [Ibid. P. 183]). Люди, как субъекты действия, могут молиться , что упоминается в рассказе о монахе Нилом-талада, отправившегося в Монголию, где «люди, встречавшиеся на его пути, молились» («jaγura-du jam-un [aliba] ulus mörgöged» [Ibid. P. 154]), принимали обеты абишиг и слушали учение. Далай-лама «своими глазами видел, как грешит монгольский народ» (монг. «Mongγol ulus-I nigülesküi-yin nidün-iyer üjen» [Ibid. P. 166]). Это уже вполне индивидуальные действия, присущие членам общности, обозначаемой как улус. Можно также вспомнить и качества, присущие людям, о которых говорилось выше: недостаток мудрости у монголов (Mongγol ulus) и много гордости [Ibid]).
Но все-таки улус чаще и в значении «народ, люди» является объектом действий властвующей элиты, у которой были не только права на них в качестве господ и владельцев, но и обязанности воспитывать , обеспечивать мир , спокойствие и счастье людей. «Если воспитываешь свой великий народ согласно религии и светскому закону, не будет ли это заслугой того, кто назван хаганом» («монг. narmai yeke ulus-i šasin törö-ber tejigebesü : qaγan kemegdekü-yin γabiy-a inu ene boluyu» [Ibid. P. 184]). Юнло, рожденный монгольской женой, став императором в Китае, правил двадцать два года и благодаря двум законам «сделал весь великий народ благополучным и мирным» (монг. «narmai yeke ulus-i esen tayibing bolγaju» [Ibid. P. 186]). Его сын Суванди-хаган также «благодаря двум законам дал мир и счастье всему великому народу» «qoyar törö-ber narmai yeke ulus-i engkejigülün jirγaγuluγad» [Ibid. P. 187].
Выше уже говорилось о том, что улус – это то, чем владеет правитель, поскольку он обозначается как ulus-un ejen .Одновременно с упоминаемымы выше представлениями о разделении понятий земли ( γajar и nutuγ ) и людей ( ulus ) нельзя не отметить и существования концепта «владение», в котором эти две составляющие сочетались. Именно так, на мой взгляд, следует интерпретировать выражение «Saγang secen qong tayiji-yin ulus» [Ibid. P. 181]), т.е. «владения Саган Сэцэн-хунтайджи» в местности Их шибэр. Хотя, кажется, прежде 24
всего подчеркивается владение людьми, составлявшими определенную социально-политическую единицу. Представляется корректным не давать перевода термина ulus , чтобы не затемнять значение феномена, который им обозначается, тем более, что он может употребляться не с именем правителя, а с этнонимом. Чингис-хан, «изгнав Таян-хана, подчинил своей власти найманский оток улус» (монг. «Tayan qaγan-i kögejü γarγaγad : naiman otoγ ulus-i erke-dür-iyen oroγulbai» [Ibid. P. 70]. Здесь употреблено парное слово (оток улус), где первое обозначает род, что подчеркивает неполитийное значение термина «улус», т.е. речь идет о властвующей элите рода Таян-хана и их подданных, которых захватывали и уводили в плен. Это подтверждается использованием этого же парного слова для обозначения группы людей, выделяемых в качестве приданного невесты, которые следовали за ней в локус жениха. За Хулан-гоа «в качестве приданного дали людей двух родов – буга и солонго» (монг. «Buqas Solongγos qoyar otoγ ulus injitei ögciküi» [Ibid. P. 59]). Употребление в данном случае этнонимов с парным словом скорее всего свидетельствует о том, что и здесь улус обозначает людей, народ, которые перемещаются в пространстве.
Безусловно, термином ulus маркируется некая общность: «Даян-хан приказал так: “Есть великий славный улус, охраняющий восемь белых юрт владыки в Ордосе. Вместе с ним [пусть будет] еще один славный улус, хранящий золотой фонд владыки – урянхан. Пусть помогает хорчинский Абагатай”» (монг. «Dayan qaγan eyin jarliγ bolorun : Ordos ejen-ü nayiman caγan ger-i qadaγalaγsan yeke jayaγ-a-tu ulus bülüge : tegün-lüge Uriayangqan mön ejen-ü altan kömörgei-gi sakiγsan basa yeke jayaγatu ulus : Qoorcin Abaγ-a-tai tuslatuγai» [Ibid. P. 128]). Здесь, вероятно, улус отмечает не всю общность – урянхан, а часть их.
Если выше речь шла об использовании термина «улус» для обозначения в качестве объекта действия людей или народа, то приведенные ниже примеры демонстрируют значение улуса как политии: Чингис-хан «Токмакский улус подчинил своей власти» (монг. «Toγmaγ ulus-i erke-dür-iyen oroγulbai» [Ibid. P. 70]), «подчинил своей власти Китай (китайский улус. – Т.Д.)» (монг. «kitad ulus-i erke-dür oroγuluγsan» [Ibid. P. 64]), «подчинил своей власти улус хоолас» (монг. «Qoolas ulus-i erke-dür-iyen oroγuγlbai» [Ibid. P. 71]), «подчинил своей власти улус харлигуд» (монг. «Qarliγud ulus-i erke-dür-iyen oroγulbai» [Ibid]) и «пять областей шара-сартулского улуса подчинил своей власти» (монг. «tabun muji Sira Sartaγul ulus-i erke-dür-iyen oroγuγad» [Ibid. P. 70]). В последнем случае политийность улуса подчеркивается территориальными коннотациями, что отмечается также и в следующем сообщении: «завоевал Хара-Тибет (Черный Тибет) – три области, восемьдесят восемь тумэнов» (монг. «γurban muji nayan naiman tümen Qara Töbed ulus-i oroγulbai» [Ibid. P. 71]), где, как видим, улус – это и территория, и люди. В аналогичной терминологии упоминается Корея: «Захватил тот Белый улус – три области Кореи» («teyin Caγan ulus γurban muji Solongγos-i oroγulju abun» [Ibid. P. 59]).
Но этим термином может маркироваться и целостность, когда сообщается, что «твой улус – чахарский тумэн» (монг. «ulus cinu Caqar tümen» [Ibid. P.
124]), и таким образом подчеркивается связь понятия ulus и с людьми, и с административной единицей.
Неопределенность значения термина ulus в полной мере проявляется в характеристике владений Даян-хана. «После этого Даян-хаган собрал и объединил шесть тумэнов-улусов и весь великий Монгольский улус сделал мирным и счастливым. Пребывал на ханском престоле семьдесят четыре года и умер в возрасте восьмидесяти лет» (монг. «tendece Dayan qaγan : jirγuγan tümen ulus-i jonggilan tökögircü : narbai yeke Mongγol ulus-i engkejigülün jirγaγuluγad : dalan dörben jile qan oron-dur saγuju : nayan nasun-iyan güi taulai jile tengri bolbai» [Ibid. P. 130]). Здесь, как видим, термином ulus обозначается как каждый из шести тумэнов, так и их общность/целостность – весь великий Монгольский улус, что позволяет, с одной стороны, предположить некую самостоятельность тумэнов, с другой стороны, недостаточно крепкое/цельное единство. Если в этом примере созданная Даян-ханом полития и ее структурные элементы обозначаются как разнородные единицы, то в следующем примере они соединены: «Даян-хан всех ввел [под свою эгиду] всех – три правых [тумэна], объединил свой великий улус шести тумэнов и установил [там] порядок» (монг. «tendece Dayan qaγan baraγun γurban-i burin oroγulun : jirγuγan tümen yeke ulus-iyan tökögerün tübsidkeged» [Ibid. P. 129]). В результате образованная им полития называется и великий Монгольский улус, и великий шести-тумэнный улус, что, по существу, свидетельствует об отсутствии установившегося наименования общности.
Это владения правителя, поскольку отмечается, что он «объединил свой великий улус», и Мандухай и Даян-хаган «согласно обычаю сбора налогов великого улуса шести [тумэнов] сказали, нужно назначить джинонгов, … и в трех правых [тумэнах] назначили джинонгом Улус Болада» (монг. «jirγuγan yeke ulus-un alban-i γubciqui yosutu : jinong bolγan… kemegsen-dür : Ulus bolad-i baraγun γurban-dur : jinong bolγar-a» [Ibid. P. 124]). Хутубага говорит: «Молан хаган, я тебя убью, твой улус захвачу» (монг. «Molan qaγan cimai alaju ulus-i ci-nu abuy-a» [Ibid. P. 118]).
Вышеприведенные примеры демонстрируют значение термина ulus в качестве объекта манипуляций правителя или претендента на владение этой общностью, что позволяет с достаточной степенью уверенности говорить об отсутствии употребления этого термина в значении «государство» в институциональном смысле, поскольку в тексте не обнаруживаются его проявления в качестве политического субъекта. Термин ulus не содержал нововременного представления о государстве как об относительно автономном аппарате правления, отделенном как от личности правителя, так и от совокупности управляемых. Более того, обозначение правителя термином ulus-un ejen подчеркивает, что хаган воспринимает подданных как собственные владения. Немногочисленные случаи упоминания термина ulus как субъекта действия совершенно определенно связаны с его начальным значением – народ, люди.
В заключение можно сказать, что оригинальный монгольский текст демонстрирует зачастую неопределенность значения термина ulus , которое может одновременно интерпретироваться как аморфная масса – люди, народ и как некая форма общности – полития. Этот период характеризуется тем, что 26
концептуальный политический лексикон, отражающий понятия и представления на верховную власть, только начинает формулироваться. В отличие от средневековой Европы, где уже с XIV в. в связи с возрождением римского права стали появляться специальные сочинения, посвященные анализу природы власти и государства, в Монголии это не являлось плодом творчества теоретиков, идеи о власти нашли лишь имплицитное отражение в летописях. В Монголии рассматриваемого периода трудно обнаружить, во-первых, пример безличного употребления термина ulus , т.е. обозначения им субъекта действия, и, во-вторых, политическая власть привязана к личности правителя. Это позволяет говорить о том, что термин не отделился от коннотаций, связанных с прежними значениями, выступающими в качестве объекта действия правителя.
Список литературы Социально-политические институты монголов 17 в
- AT 1952 - Altan Tobci. A Brief History of the Mongols by bLo-bzan bsTan-‘jin with a Critical Introduction by The Reverend Antoine Mostaert, C.I.C.M. Arlington, Virginia and An Editor's Foreword by Francis Woodman Cleaves Associate Professor of Far Eastern Languages Harvard University. Harvard-Yenching Institute. Scripte Mongolica 1. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. 1952.
- АТ 1972 - Лубсан Данзан. Алтан тобчи («Золотое сказание»). Перевод с монгольского, введение, комментарий и приложения Н.П. Шастиной. Памятники письменности Востока. Х. Издательство «Наука». Главная редакция Восточной литературы.-М., 1973
- ET 1990 - Erdeni-yin tobci. (‘Precious Summary'). Saгang Secen. A Mongolian Chronicle of 1662. The Urga text transcribed and edited by M. Goo, I. de Rachewltz, J.R. Krueger and B. Ulaan. Faculty of Asian Studies Monographs: New Series. No.15. The Australian National University. -Canberra. 1990.
- ETNS 2001 - Kollmar-Paulenz, Karenina. Erdeni tunumal neretu sudur. Die Biographie des Altan qa.an der Tumed-Mongolen / Ein Beitrag zur Geschichte der religionspolitischen Beziehungen zwischen der Mongolei und Tibet im ausgehenden 16. Jahrhundert. Harrassowitz Verlag. -Wiesbaden. 2001.
- ШТ 1957 - Шара туджи. Монгольская летопись XVII века / Сводный текст, перевод, введение и примечания Н.П. Шастиной.- М.-Л., 1957.