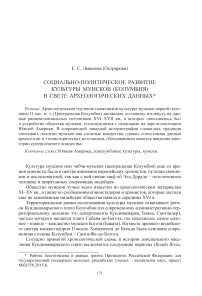Социально-политическое развитие культуры муисков (Колумбия) в свете археологических данных
Автор: Леванова Острирова Е.С.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 239, 2015 года.
Бесплатный доступ
Археологическое изучение памятников культуры муисков первой половины II тыс. н. э. (Центральная Колумбия) заставляет по-новому взглянуть на данные раннеколониальных источников XVI-XVII вв., в которых описывались быти устройство общества муисков, столкнувшихся с испанцами на заре колонизации Южной Америки. В современной западной историографии сложилась традиция описывать политии муисков как сложные вождества, однако, сопоставляя данные археологии и этноисторических источников, обоснованным кажется введение категории суперсложного вождества.
Южная америка, доколумбовые культуры, муиски
Короткий адрес: https://sciup.org/14328170
IDR: 14328170
Текст научной статьи Социально-политическое развитие культуры муисков (Колумбия) в свете археологических данных
Культура муисков или чибча-муисков (центральная Колумбия) еще со времен конкисты была в центре внимания европейских хронистов, путешественников и исследователей, так как с ней связан миф об Эль-Дорадо – позолоченном человеке и запрятанных сокровищах индейцев.
Общество муисков лучше всего известно по археологическим материалам XI–XV вв., а также по сообщениям конкистадоров и хронистов, которые застали еще не завоеванные индейские общества начала и середины XVI в.
Территориальные рамки исследования культуры муисков охватывают регион Кундинамаркского плато Колумбии (по современному административно-территориальному делению это департаменты Кундинамарка, Бояка, Сантандер), частью которого является плато Сабана-де-Богота, где находилось самое сильное – южное – вождество муисков Богота (Баката). На месте древнего индейского центра конкистадором Гонсало Хименесом де Кесада была основана современная столица Колумбии – Санта-Фе-де-Богота.
Согласно принятой хронологической схеме, в истории доиспанского населения Кундинамаркского плато выделяются следующие периоды ( Boada Rivas ,
2007; Langebaek , 1995): Эррера (400 г. до н. э. – 1000 г. н. э.) – домуискский период; раннемуискский период (1000–1200 гг.); позднемуискский период (1200–1600 гг.).
Расцвет культуры (увеличение поселений, демографический рост, появление сложной социально-политической иерархии) приходится на первую половину II тыс. н. э., поэтому ее в доиспанской истории Колумбии принято считать поздней или постклассической культурой.
К моменту прихода европейцев индейцы чибча жили на территории современных департаментов Кундинамарка (южные земли, или сипасго , с центром в Боготе), Бояка (северные земли, или сакасго , с центром в Тунха), Сантандер (« независимые земли »). Суммарная площадь освоенных муисками земель, по приблизительным оценкам, основанным на упоминаниях населенных пунктов в хрониках и отчетах испанцев XVI в., составляла около 22000 км2 ( Kurella , 1998. Р. 192). Самой густо населенной частью Кундинамаркского плоскогорья была Сабана-де-Богота, высокогорное плато, находящееся на высоте 2400–2800 м над уровнем моря. На севере, в департаментах Бояка и Сантандер, располагались небольшие долины с более пригодным для земледелия климатом.
Численность населения в регионе в XVI в. оценивалось максимум в 1 миллион человек ( Kroeber , 1946. Р. 887), в последнее время эта цифра считается завышенной ( Reichel-Dolmatoff , 1978. Р. 97).
Точно установить численность населения различных районов и поли-тий в позднемуискский период сложно, так как общество муисков не было гомогенным ни в этническом, ни в социально-политическом плане. Границы политических образований были условны и постоянно менялись в ходе войн и слияний.
Социально-политическая организация общества муисков накануне испанского завоевания довольно подробно отражена в письменных раннеколониальных источниках (отчетах конкистадоров и испанских хрониках). Наиболее ранние сообщения и описания общества муисков оставили Гонсало Хименес де Кесада ( Freide , 1960) и королевские чиновники Хуан де Сан-Мартин и Антонио де Лебриха, принявшие участие в походе Хименеса де Кесада и завоевании земель Центральной Колумбии с 1535 по 1539 г. Их доклад попал в распоряжение хрониста Овьедо, который переписал его и вставил в книгу XXVI (глава XI) «Общей и естественной истории Индий» ( Fernández de Oviedo y Valdés , 1851).
Основная проблема изучения социально-политической организации муис-ков – соотнесение данных исторических источников и материалов, полученных при археологическом исследовании региона. Наиболее изучены археологические памятники, являвшиеся небольшими независимыми или подвластными Боготе и Тунха селениями в долинах Самака, Лейва, Фукене, Сутумарчан в северных землях (памятники Эль-Инфернито, Эль-Венадо, Рамирики, Тибана). В южных землях муисков исследование центральных районов Сабана-де-Богота затруднено из-за городской застройки. Наиболее изученными являются памятники долин Кота, Суба, Тенса: поселения Фунса, Фонтибон, Чиа, Сопо, Москера, Мадрид.
К концу XX в., спустя полвека после начала активного археологического изучения доиспанских поселений муисков, исследователями были сделаны выводы о несоответствии данных хронистов материалам археологических изысканий
( Henderson, Ostler , 2005). Действительно, в историографии XIX в. данные хронистов часто интерпретировались как свидетельства существования «империи муисков», аналогичной империям астеков и инков ( Correa , 2005). Анализ погребений выявил невысокую степень социальной дифференциации в ранне- и позд-немуискский периоды, низкий уровень экономической дифференциации внутри регионов и отсутствие показателей индивидуального статуса. К примеру, анализ распространения фигурок из золота и тумбага (сплав золота и меди), типичных для ювелирного производства муисков – тунхос – показал, что эти фигурки использовались в подношениях и погребениях как людей с высоким статусом, так и простых общинников ( Langebaek , 2003. P. 264, 265).
Однако уже для раннемуискского периода существуют подтверждения формирования института лидерства и первых простых вождеств. Среди них отмечены данные о проведении пиров или церемоний в высокостатусных домохозяйствах, подтверждающиеся многочисленными находками сосудов для чичи ( Boada Rivas , 1999); появление в начале раннемуискского периода (XI–XII вв.) большого числа новых поселений, часть из которых основывалась в местности, наиболее выгодной для обороны в случае войны ( Langebaek , 1995).
Данные о динамике развития поселенческих структур появились лишь в конце XX в. благодаря региональным археологическим проектам. Начиная с 70-х гг. XX в. велись раскопки в долинах Фукене, Самака, Сачика, Лейва, наиболее значимым результатом которых являются работы колумбийского археолога Карла Лангебайка, посвященные процессу эволюции поселенческих структур на региональном уровне в контексте экологической адаптации и практик ( Langebaek , 1995). Долговременный проект Центра компаративной археологии Питтсбургского университета «Эль-Венадо» (1999–2000) под руководством археолога Анны Марии Боада на сегодняшний день является наиболее комплексным проектом, в результате которого были получены данные о социальной стратификации и поселенческой иерархии ( Boada Rivas , 1999; 2007).
Площадь наиболее крупных поселений в XIV–XV вв. составляла от 5 до 22 га (долина Сутумарчан), в долинах Кота и Суба – 14 (Чиа) и 8,52 га (Тибаитата), в долине Самака – от 3 до 5 га, а в долине Тенса деревни были не больше 1 га по площади, а поселение Эль-Венадо (долина Фукене) достигает 5 га, увеличившись в 5 раз по сравнению с предыдущим периодом ( Boada Rivas , 1999).
В исследуемых долинах в позднемуискский период сформировались политические центры, что подтверждается данными письменных источников, в которых упоминается один касик долины (в Фукене), в то время как в долине Лейва было как минимум два касика, управлявших самыми большими деревнями ( Langebaek , 1995).
В Сабана-де-Богота в позднемуискский период происходят аналогичные изменения. Деревни разрастаются, новые поселения возникают на самых плодородных почвах и на берегах естественных водоемов. Фрай Педро Симон в XVI в. описывал поселения муисков в Сабана-де-Богота как «огромные бесконечные селения, которые казались все вместе одним селением и в которых были очень высокие и роскошные здания, в особенности те, которые принадлежали знатным (principales) и вождям кварталов (caciques de las parcialidades), они были обнесены стенами по их обычаю так, что казалось издалека, будто это крепости...» (Simón, 1892).
Определяющей тенденцией развития социально-политических структур в XII–XV вв. стал заметный рост численности населения. Оценки его в различных регионах варьируют. По расчетам А. Боада и Р. Дреннана, средняя плотность населения в деревнях муисков, исходя из показателей региона долины Фукене и долины Кота и Суба, составляла примерно 30–40 человек на км2, что является средним показателем для синхронных обществ региона верховий р. Магдалена – сложных вождеств ( Boada Rivas, Drennan , 2006). Раннеколониальные источники свидетельствуют об отсутствии у муисков концентрации населения и тенденций формирования урбанизма. Лукас де Пьедраита описывал Бакату (столицу южных муисков) не как город (ciudad) или поселение (pueblo), а как рассеянную агломерацию, занимавшую равнину размером 10 на 20 лиг и с населением в более чем 20 тысяч домохозяйств. Он особенно отмечал, что «в некоторых их землях, где был двор правителя, поселения напоминали больше земельные угодья» ( Piedrahita , 1881).
Хронист Овьедо-и-Вальдес оставил наиболее подробное описание поселений муисков, в том числе на плато Сабана-де-Богота, указывая, что во всей долине было около 2 000 домов, а «каждое селение из 10, 20, 30, 100 домов» ( Fernández de Oviedo y Valdés , 1855).
Испанцы отмечали, что вожди есть в каждой долине муисков, при этом есть более и менее могущественные. У муисков иерархия вождей, по-видимому, варьировала от региона к региону.
Постоянные войны между вождями муисков привели к формированию на плоскогорье Сабана-де-Богота в конце ХV – начале ХVI в. пяти крупных политических объединений. Наиболее мощное было создано в южной части плоскогорья правителями Боготы, которым подчинялось от 12 до 20 касиков. Согласно различным раннеколониальным документам, вождям Гуатавиты подчинялось 16 касиков. Следует отметить, что названия некоторых территорий, подчиненных Боготе или Гуатавите, пересекаются, что свидетельствует о динамике политической ситуации.
Археологическое изучение крупных политических объединений муисков затруднено, поскольку многие центральные поселения были застроены испанскими колониальными городами (Богота, Фунса и др.). Исследования близлежащих территорий указывают на усложнение социально-политической иерархии общества в позднемуискский период, выделение специализированных общин с высоким статусом, но размер их не позволяет говорить о значительной степени централизации, хотя есть определенная корреляция между плодородностью почв и статусом общины. «Элитные» общины занимали лучшие земли, при этом продолжалась более ранняя практика использования и расширения «приподнятых полей» (систем искусственных насыпей – земледельческих террас, располагавшихся как на равнинных участках, так и на горных склонах, которые задерживали влагу), но нет никаких свидетельств, что элита организовывала общественные работы для их сооружения (Broadbent, 1968). Обслуживание подобных сооружений (насыпей) и небольших каналов для лучшего отвода воды и дренажа почв не требовало централизованной организации труда и могло выполняться силами небольшого домохозяйства. Таким образом, доступ к земледельческим ресурсам не являлся источником усиления института власти. Возможно, статус богатых семей все же был связан с землей, но скорее, с правом первопоселенцев.
С другой стороны, элита могла использовать технологию «приподнятых полей» как способ поддержания высокой плотности населения в своем регионе для лучшего контроля над натуральным хозяйством, однако в позднемуискский период незаселенными были многие плодородные земли в долинах, что говорит об отсутствии демографического давления.
Важным археологическим свидетельством, характеризующим развитие института лидерства у муисков, является распространение престижных ценностей. Морские раковины, предметы из шлифованного камня, ювелирные изделия, привозная керамика часто встречаются в кладах под фундаментами жилищ и в погребениях, хотя имущественная и социальная дифференциация по погребальному инвентарю прослеживается слабо.
Для позднемуискского периода был характерен региональный интенсивный обмен, прежде всего – керамическими сосудами, которые использовались в домохозяйствах с высоким статусом для хранения алкогольных напитков (чичи). Данные археологии также свидетельствуют о специализации некоторых деревень на керамическом производстве, прежде всего – вождества Гуатавита. В хрониках упоминаются «деревни горшечников» Тинхака, Ракира, Токансипа (долина Фукене), Гуатавита и Гуасака ( Langebaek , 1987). Кроме того, обмен керамическими сосудами происходил и на региональном уровне, например, в долину Фукене привозились сосуды из Сабана-де-Богота, долины Тенса и даже из региона долины р. Магдалена.
Исследования хроник и архивных документов, проведенные К. Лангебайком, выявили высокий уровень развития обмена в обществе муисков, зафиксированный в XV–XVI вв. (Ibid.). Муиски активно обменивались со своими соседями панче, ланче, сутагао и другими племенами. Прежде всего, им необходимо было сырье: хлопок и золото. На пограничных рынках на соль из муискских соланчаков выменивали золото, так как на территории Сабана-де-Богота не было собственных месторождений. Золото поступало к чибча с запада, от индейцев долины р. Магдалена, о чем пишет, например, хронист Педро Симон: индейцы панче «были так богаты, что они менялись золотом… с моска с высокогорий в обмен на одеяла, соль и другие вещи» ( Simуn , 1892). Индейцы сутагао из южных земель привозили золото на рынки в Паска, Фусагасуга и Боготу, где меняли его на кожу и мясо оленя, сельскохозяйственные продукты. В северных землях на необработанное золото меняли также листья коки (Ibid.). Листья анаденатеры (йопо), сильного галлюциногена, который муиски, как и многие другие жители Южной Америки и Карибского региона, употребляли в ритуалах, привозились с востока.
Муиски были признанными ювелирами, и часто необработанные слитки их соседи обменивали на уже готовые фигурки из золота или тумбага. Золотые изделия (тунхос, различные украшения, предметы погребального обряда, дощечки для растирания листьев коки и табака) использовались повсеместно. На изготовлении предметов торевтики специализировались такие поселения, как Гуатавита, Сакенсипа и Паска. В архивных документах встречается упоминание, что если индеец хотел поднести богам золото, он отправлялся в Гуатавиту и Сакенсипу, потому что там много ювелиров (Simуn, 1892). Видимо, речь шла об особо ценном подношении, потому что приспособления для отливания фигурок из золота (литейные формы и противни) и изготовления тумбага встречаются по всему Кундинамаркскому плато. Также повсеместно на археологических памятниках в позднемуискском слое обнаружены тунхос, выполненные с различной степенью проработки деталей. Предметы мелкой золотой скульптуры часто помещали в сосуды-жертвенники и закапывали под полом храмов и домов, оставляли в пещерах. Реже тунхос встречаются в погребениях. Вероятно, сам термин «тунхос» и происходит от чибчианского «chunzo» – «жертва», «идол» (Сastro, 2005). Большинство тунхос, которые экспонируются в Музее золота г. Богота и региональных музеях, были найдены при раскопках памятников южных территорий муисков, что подтверждает гипотезу о специализации на ювелирном деле именно южных вождеств.
Основными элементами репрезентации статуса в обществе муисков были плащи и рубашки тонкой выделки, которыми славились муискские мастера, украшения (золотые диадемы, нагрудные пластины, носовые вставки), ожерелья из раковин, драгоценные камни, прежде всего – изумруды. Носить расписные плащи могли только касики и их приближенные, которым правители обычно их дарили (Ibid.). Дорогие цветные или расписные ткани были одной из основных престижных ценностей, и их дарообмен регулировал отношения между касиками различных уровней. Стоит отметить, что мумии правителей муисков обязательно заворачивали в одеяла и ткани высокого качества, поэтому отдельную роль эти товары играли и в погребальном обряде. Подобными подарками скреплялись союзы и поддерживались альянсы. Обмен дорогими тканями проходил в основном на пирах, где их передавали друг другу вожди.
Пиры играли в обществе муисков важную, связующую роль еще в начальные периоды культурогенеза. По сообщениям хроник, их устраивали в честь посева и сбора урожая, прежде всего – маиса и хлопка: «В месяцы января, февраля и часть марта… в поместья, где они занимались земледелием, приглашали касики друг друга, делая друг другу дорогие подарки золотом, одеялами и своим вином» ( Simón , 1892).
Продукты, которые общинники отдавали касику, использовалась в пиршествах и религиозных обрядах, в ходе которых вождь распределял «богатства» и элитные товары между знатью.
С точки зрения исследователей, праздники, связанные с зимним солнцестоянием, играли важную политическую роль (Correa, 2005). Отмечается связь культа Солнца и образа правителя. Бог муисков Бочика – воплощение Солнца – в хрониках упоминается также как «бог селений / укреплений» и как «бог вождей и капитанов», специальный «покровитель начальников» (Ibid). Связь пиршеств с проведением церемоний в дни солнцестояния удалось проследить и при изучении единственного сохранившегося до наших дней ритуального центра муисков в Эль-Инфернито, где на площади с каменными монолитами было обнаружено большое количество сосудов для чичи. Видимо, к концу поздне-муискского периода сложилась идеологическая система, в которой правитель являлся инкарнацией солярного божества, возглавлял проведение церемоний, на которых устраивались большие пиры.
Погребения позднемуискского периода являются особенным источником изучения социальных иерархий в обществе. Практика мумифицирования в элитной среде была распространена еще с раннемуискского времени, но не выявлены существенно выделяющиеся богатые погребения правителей, как, например, в культурах долины Калима и Каука (запад Колумбии). Возможно, это связано с описанной хронистами практикой захоронений мумий в пещерах, где к ним всегда был доступ, или особым отношением к смерти. Мумификация играла важную политическую роль, и именно практика мумифицирования отличала погребальный обряд высших страт. Мумии касиков хранились их потомками как подтверждение права на владение землей и управление «вассалами». Отношения внутри вождеств и альянсы между соседними политиями строились на родственно-территориальной основе, поэтому статус вождя основывался на его родословной и связи с легендарными предками. Мумии были доказательством его исключительного социально-политического положения (благодаря истории рода) и легитимности власти ( Langebaek , 2003. P. 263). Кроме того, в южных землях муисков найдены кладбища близ поселений Усме и Мадрид, в северных землях – кладбище близ Сопо. Кладбище Усме обнаружили только в 2007 г., и, по мнению археологов, это был некрополь столицы Боготы, площадь которого составляла около 30 га. Исследователями было обнаружено 135 полных костяков, и, по подсчетам, общее количество погребений (трупоположений в ямах), датированных XII–XVI вв., насчитывает порядка 1 500 ( Palacio , 2011).
Вопрос о причинах и путях формирования лидерства в обществе муисков остается открытым, так как лишь в недавнее время появились данные об эволюции внутриобщинных структур и формировании поселенческой иерархии, начиная с периода Эррера и заканчивая временем исчезновения культуры муисков.
С уверенностью можно сказать, что иерархия вождей, по-видимому, варьировала от региона к региону. Несмотря на существование сложных вождеств, во многих районах сохранились автономные простые вождества. Страта вождей имела монопольное право носить одежды из орнаментированных хлопковых тканей и определенные украшения, поддерживала традицию проведения праздников и пиршеств, сложившуюся на ранних этапах формирования социальнополитической организации у муисков. При этом в позднемуискский период прослеживается тенденция к концентрации ресурсов, связанных с проведением пиров в руках элиты, которая переходит от спонсирования всей общины к редистрибуции престижных товаров и специализированных продуктов питания (мясо оленя и чича) внутри своей страты для поддержания власти. Это говорит о концентрации власти в руках вождей и усилении социальной дифференциации.
Исследования домохозяйств и центральных поселений муисков доказывают, что в позднемуискский период социальная дистанция между знатью и общинниками усилилась преимущественно благодаря тому, что элита и касики контролировали и организовывали праздники, пиры и обряды. Для раннемуискского и позднемуискского времени характерна специализированная диета отдельных домохозяйств: представители элиты ели мясо, прежде всего – мясо оленя. Особое место в отношениях касика и элиты занимал ритуальный обмен (распределение особо ценных хлопковых тканей), необходимый для поддержания власти вождя. В испанских источниках еще одним значительным механизмом утверждения власти касиков называется военный фактор. Организация походов на соседей и защита от испанцев, безусловно, способствовали укреплению вождеской власти, хотя археологические свидетельства конфликтов между политиями не прослеживаются.
В современной историографии социально-политический уровень развития культуры муисков оценивается как сложное вождество ( Drennan , 2008. P. 392–396). Введение категории суперсложных вождеств в характеристику социально-политической организации муисков накануне Конкисты позволяет эффективно решить центральную проблему историографической дискуссии о характере муискского общества, которая ведется уже более полутора веков. Источники свидетельствуют, что политические объединения муисков были более иерархически организованными, чем стандартные сложные вождества, в результате чего исследователи постоянно «подтягивали» их до раннегосударственного уровня и ставили в один ряд с астеками и инками ( Correa , 2005). В то же время отсутствие специализированного аппарата управления и системы хранения и передачи информации не позволяет говорить о сложении ранних государств. Представляется, что наметившаяся в последние десятилетия ХV – первые десятилетия ХVI в. тенденция к формированию суперсложных вождеств (Богота, Тунха) в перспективе могла бы привести к генезису на Кун-динамаркском плоскогорье ранних государств, однако этот процесс находился даже не в зачаточной стадии, так как даже в условиях иноземного вторжения политии муисков не смогли выйти на новый (региональный) уровень централизации и объединиться против конкистадоров.
Список литературы Социально-политическое развитие культуры муисков (Колумбия) в свете археологических данных
- Boada Rivas A. M., 1999. Organizaciyn social y ecomica en la aldea muisca El Venado, valle de Samaca, Вoyacâ//Revista Colombiana de Antropologia. No. 35. P. 118-145.
- Boada Rivas A. M., 2007. The Evolution of Social Hierarchy in a Muisca Chiefdom of the Northern Andes of Colombia. Вogotâ: University of Pittsburgh Latin American Archaelogy. 272 p.
- Boada Rivas A. M., Drennan R. D., 2006. Demografic patterns//Prehispanic Chiefdoms in the Valle de la Plata/Ed. R. D. Drennan. Pittsburg; Вogotâ: University of Pittsburgh. Vol. 5: Regional Settlement Patterns. P. 59-82.
- Broadbent S. A., 1968. Prehistoric Field System in Chibcha Territory, Colombia//Nawpa Pacha: Journal of Andean Archaeology. Berkley. No. 6. Р 135-147.
- Castro A. M., 2005. El género como expresión simbólica: Un estudio iconografico sobre los tunjos muiscas//Eoletίn Museo del Oro. Вogotâ. No. 53. P. 74-109.
- Correa F., 2005. El imperio muisca: iотєпиуп de la historia y colonialidad del poder//Muiscas: representaciones, cartografias y etnopoliticas de la memoria/Ed. A. M. Gуmez Londoeo. Вogotâ: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. P. 200-227.
- Drennan R., 2008. Chiefdoms of Southwestern Colombia//Handbook of South American Archaeology/Eds H. Silverman, W. H. Isbell. New York: Springer. P. 381-403.
- Fernândez de Oviedo y Valdės G., 1851-1855. Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar océano. Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia. 5 vols.
- Freide J., 1960. Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y Fundación de Вogotâ (1536-1539): segùn documentas del Archivo General de Indias, Sevilla. Вogotâ: Imprenta del Вanco de la Republica. 342 p.
- Henderson H., Ostler N., 2005. Muisca settlement organization and chiefly authority at Suta, Valle de Leyva, Colombia: a critical appraisal of native concepts of house for the studies of complex societies//Journal of Anthropological Archaeology. No. 24. P. 148-178.
- Kroeber A. L., 1946. The Chibcha//Handbook of South American Indians. Washington: Smithsonian Institution. Vol. 2: The Andean Civilizations. P. 887-909.
- Kurella D., 1998. The Muisca, chiefdoms in transition//Chiefdoms and Chieftaincy in the Americas/Ed. Elsa M. Redmond. Gainsville: University Press of Florida. P. 189-216.
- Langebaek C. H., 1987. Mercados, poblamiento e integración étnica entre los muiscas, siglo XVI. Bogota: Banco de la Republica. 168 p.
- Langebaek C. H., 1995. Arqueologia regional en el territorio muisca: estudio de los valles de Fùquene y Susa. Pittsburgh: University of Pittsburg; Bogota: Universidad de los Ande. 215 p.
- Langebaek C. H., 2003. The political economy of pre-oolombian goldwork: four examples from Northern South America//Gold and Power in Ancient Costa Rica, Panama and Colombia. Washington, 2003. P. 245-278.
- Palacio L. M., 2011. NecrYpolis de Usme, 400 anos de historia muisca por descubrir//Un Periodico. Mar. 12 de 2011. URL: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/necropolis-de-usme-400anos-de-historia-muisca-por-descubrir.html. Date of application: 04.09.2015.
- Piedrahita L. E. de. 1881 ffistoria general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada. Bogota, 1881. Libro 1.
- Reichel-Dolmatoff G., 1978. Colombia Indigena. Periodo prehispanico//Manual de Historia de Colombia. Bogota. P. 31-118.
- Simón P., 1882-1892. Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Bogota. 5 vols.