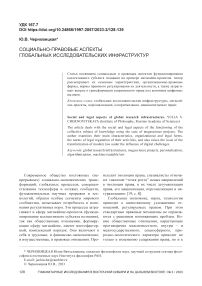Социально-правовые аспекты глобальных исследовательских инфраструктур
Автор: Черновицкая Юлия Вячеславовна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена социальным и правовым аспектам функционирования коллективного субъекта познания на примере мегасайен-проектов. Автор рассматривает их основные характеристики, организационно-правовые формы, нормы правового регулирования их деятельности, а также затрагивает вопрос о трансформации современного права под влиянием цифровых вызовов.
Глобальные исследовательские инфраструктуры, мегасайенс-проекты, персонализация, алгоритмизация, машиночитаемое право
Короткий адрес: https://sciup.org/170199724
IDR: 170199724 | УДК: 167.7 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-2/128-139
Текст научной статьи Социально-правовые аспекты глобальных исследовательских инфраструктур
Современное общество постоянных (непрерывных) социально-экономических трансформаций, глобальных процессов, совершенствования техносферы и сетевых сообществ, фундаментальных научных прорывов и технологий, образуя особые сегменты мирового сообщества, испытывает потребность в изменении регулятивных норм. Эти процессы затрагивают и сферу мегасайенс-проектов (функционирование коллективного субъекта познания), так как общественные отношения, формирующие сферу мегасайенс, имеют многофакторный, комплексный порядок. Они включают в себя и трудовые, и финансово-экономические, и имущественные, и правовые отношения. Про- исходит эволюция права, специалисты отмечают «наличие “точек роста” новых направлений в эволюции права, в их числе дегуманизация права, его машинизация, персонализация и натурализация» [19, с. 8].
Глобальная экономика, наука, технологии приводят к качественному усложнению отношений, регулируемых правом. При этом стандартные правовые механизмы не справляются с решением возникающих проблем. Новые общественные отношения, нарастающие противоречия межличностного, внутри – и межгосударственного, социосферного, природно-экологического характера приводят не только к изменению содержания права, но и к изменениям формы, системы права [17] и даже его мировоззренческих основ [4, с. 24, 72]. Существуют обоснованные прогнозы трансформации механизма правообразования [18, с. 23].
Современным обществом активно используется коллективная организация труда, авторами научных разработок (особенно в фундаментальных науках) становятся целые коллективы ученых, научные коллаборации. Научное сообщество выступает как коллективный субъект познания, представляющий собой социальный феномен: это сообщество специалистов, групп, корпораций в какой-либо области знания или нескольких областях, возможно, с переменным составом и разным количеством участников, возможно, без четкой геолокации. Требует решения ряд вопросов: о коллективном субъекте познания – его определении, границах, мобильности и изменчивости, о новом типе авторства коллективного субъекта познания, формах и распределении ответственности за результаты его деятельности, о разработке нормативного аппарата, регулирующего эти процессы.
«…Трансформируется понимание мышления как некоего свойства, присущего индивидуальному сознанию, то есть как принципиально личностного образования… Понятие коллективного мышления приобретает вполне реальные черты, – считает В.В. Миронов, – потому что индивид может подключить свое мышление к огромной базе данных» [7, с. 85]. В более широком смысле любое новое знание, создание новой парадигмы – это процесс, требующий коллективных усилий.
Цифровая культура предлагает нам огромный массив данных, благодаря современным технологиям мы имеем доступ к результатам деятельности глобальной коммуникационно-информационной сети, сталкиваясь при этом с различными эпистемологическими проблемами, изменением парадигмы научного поиска, проблемами отбора, идентификации, верификации информации, сменой типа деятельности человека, все больше выступающего теперь не генератором, а лишь виртуозным (или не очень) пользователем идей и информации, которую ему удалось получить, систематизировать, переработать. Появляются технологические, коммерческие, социально-политические механизмы, регулирующие доступность информации. «Речь идет о так называемом “информационном коконе”, под которым понимается создаваемая для пользователя алгоритмом поисковых сетей выборка, основанная на его запросах и их внутренней логике, действуя зачастую в интересах не истины, а рекламы или цензуры» [10, с. 32].
Изменяется правовая система, регулирующая появившиеся собственные системы ценностей и социальные ориентиры сетевых сообществ, правила поведения человека. Часто такая система ценностей не соответствует привычным оффлайновым методам регулирования правоотношений, а также отношений социальных и этических.
«Право, – утверждает Т.Я. Хабриева, – является частью текущих социально-экономических трансформаций, выступает не только их инструментом, но и объектом, демонстрирующим динамику его различных сторон». Изменения, связанные с развитием антропотехносферы, ориентация на технологическое развитие порождают в праве конкуренцию «гуманитарного и технического (инженерно-технического) правопонимания, ценностей традиционалистской и техногенной цивилизации, текстуально изложенной и “машинизированной” нормы, нормативного и индивидуального (персонализированного) регулирования, юридической нормы и программного алгоритма, человеческого и нечеловеческого, человеческого и трансчеловеческого (гуманизма и трансгуманизма)» [19, с. 8].
Деятельность человека все больше стала поддаваться алгоритмизации, это касается как социальных сетей, различных электронных сервисов, так и сфер социальной жизни в части управленческих, правоприменительных, надзорных решений. Человек, выходя в интернет, подключаясь к глобальной сети, к глобальной информационной коммуникации, нажимая на клавиши, становится частью общего механизма, системы и все больше зависит от алгоритмизированных технологий Big Data. Право реагирует на данные тенденции такими механизмами регуляции, как персонализация, машинизация права и др.
Идея персонализации права, наиболее применимая в сферах наследственного, договорного права, законодательства в сфере раскрытия информации, имеет намерение распространения на право в целом. Прежде всего, ее реализация стала возможной в связи с изменениями в технологической сфере, такими как значительный рост объема собираемых и хранимых данных (Big Data), и с распространением информационно-коммуникационных систем, позволяющих отдельным лицам пользоваться доступной информацией и таким образом быть связанными с остальным сообществом (Big Link).
Персонализация подразумевает разработку, реализацию и использование индивидуализированных правовых норм, созданных на основе обработки данных о конкретном лице. Самым популярным примером персонализированного права является возможность вождения автомобиля с учетом персональных особенностей вождения, стажа, возраста и т.п. «Умный» автомобиль, смартфон или иное смарт-устройство посредством алгоритма выберет правильную стратегию вождения для конкретного индивида. Также, например, доступ к информации о состоянии организма, скажем, о беременности, сердечно-сосудистых заболеваниях и т.п., может стать полезным и оправданным, если индивиду при покупке лекарств и продуктов, пользовании инфраструктурой и т.п. будет специально указываться на возможные нежелательные последствия несоблюдения им рекомендованных при его состоянии мер предосторожности. Впервые идею о правовых нормах, приведенных в соответствие с условиями рынка и индивидуальными характеристиками его участников, высказал Ян Айрес, который еще в 1989 г. предпринял попытку разработать теорию «оптимальной индивидуализации» (см. об этом: [8, с. 59]).
Персонализация права при возможных положительных составляющих имеет ряд спорных моментов. И, прежде всего, это касается соотношения с фундаментальными правами человека (принципом равенства, запретом дискриминации, защиты персональных данных и личной информации), особенно в цифровую эпоху. В частности, правовые документы (см., напр.: [24]) указывают на опасность ущемления свободы мнений, права на неприкосновенность частной жизни из-за наличия процессов цифровизации, упрощающих правительствам, организациям и физическим лицам сбор, отслеживание, перехват и использование информации.
Еще одним негативным последствием является образование «кастомизированного» общества, «кастомизированного» регулирования для различных объектов или даже участников правоотношений. На активное формирование кастового общества в связи с персонализацией социального регулирования в публичной сфере также указывают и другие исследователи [2, с. 52]. Примером этого служит система социального рейтинга в Китае. Ф. Бендер указывает на две концепции становления персонализированного права: одна из них опирается на волю и предпочтения индивидов, другая принимает за источник права политические соображения [22, p. 52].
Вызывает опасения и неспособность человека проследить, объяснить, предсказать логику алгоритма и его работу. Особенно если это касается таких тесно связанных с личным областей, как здравоохранение или безопасность. «В обычных условиях образованный человек может понять, как закон функционирует, обратившись к официальному тексту. Вместе с тем персонализированный закон может быть представлен в виде алгоритма и сложного набора взаимосвязанных, взаимоотсылающих норм. Это может вызвать необходимость обладания новыми навыками (например, в сфере науки о данных или программирования)» [8, с. 67].
Данная практика «дегуманизирует человека, упрощая его до ограниченного набора характеристик, выраженных в виде переменных, вводимых в прогнозную модель алгоритма» [14, с. 174–195], а также может привести к ущемлению прав человека, социальному неравенству. Содержание и объем данных персонализированного права наполняется и контролируется экспертами в области IT-технологий, контролирующих алгоритмы. «Таким образом, может возникнуть порочный круг, когда персонализация на основе скрытых алгоритмов может приводить к ущемлению права человека на информацию, а обеспечение их прозрачности – к получению необоснованной выгоды и социальному неравенству» [8, с. 70]. Взаимосвязанные, взаимоотсылающие нормы, алгоритмы персонализированного закона могут создать условия для масштабного планирования, контроля поведения большого количества индивидов или даже коллективов и рассмотрения индивида исключительно с точки зрения его полезности.
Обратимся к другому направлению в эволюции права – машинизации права. Машинизация (или алгоритмизация) права подразумевает использование в правовом регулировании алгоритмов, идентичных алгоритмам компьютерных программ. На современном этапе идет активное формирование машиночитаемого права. «Оно может включать набор юридически значимых метаданных, необходимых для формулирования и описания правовых норм в достаточном для решения практических задач объеме, а также алгоритмы, применяемые для каких-либо форм работы с правовыми документами или с нормами права» [3], основная задача которых – оптимизация использования человеческих ресурсов, а также использование технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных. Данные функции сыграли бы положительную роль в работе глобальных исследовательских инфраструктур, осуществлении мегасайенс-проектов. Максимально автоматизированные, качественные условия для проведения исследований, оцифрованная информация результатов исследований необходимы в условиях конкуренции групп и коллабора-ций за опубликование прорывных, уникальных результатов своей работы.
Согласно концепции АНО «Цифровая экономика», «наибольшим потенциалом для перевода в машиночитаемый формат обладают документы в сфере технического регулирования и стандартизации по ключевым направлениям цифровой экономики, в особенности – стандарты в сфере обмена данными и контроля их содержимого» [12, с. 49–50]. Все, что поддается структурированию и формализации, может быть переведено в электронный вид и обработано при помощи алгоритмов с целью максимального исключения действий людей, автоматизации производства. Это электронный документооборот, обработка и хранение персональных данных, медицинская информация и информация, используемая в образовании, алгоритмы защиты прав потребителей при совершении дистанционных сделок, мониторинг процессов обмена информацией между устройствами с помощью технологий интернета вещей, автоматизация предоставления сервисов умного города, государственных услуг и др. Активно используемые в настоящее время чат-боты и помощники также представляют собой созданные на основе обработки больших массивов данных нейросети. Уже давно используются методы обработки данных интеллектуальными системами без участия человека, например, электронная подпись, в которой запрограммирована полная информация о ее обладателе и его полномочиях, система умных договоров в договорном праве, язык разметки юридических соглашений (Legal Agreement Markup Language), использующийся для выражения структуры документа.
Машиночитаемое право как новая форма права имеет ряд особенностей и рисков, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, необходимо учесть, что машиночитаемое право по-прежнему формируется и применяется человеком. Автоматизация создает риски некорректного распознавания обстоятельств правонарушения, в том числе из-за сбоев и ошибок, риски необъективности решений из-за опоры алгоритма на принятые ранее им же неправомерные решения, ложной идентификации личности и обстоятельств.
Как становящаяся отрасль машиночитаемое право из-за отсутствия проверенных подходов и алгоритмов деятельности характеризуется отсутствием предсказуемости точных результатов деятельности. Кроме того, «существует риск неконтролируемого воспроизведения ошибок, что требует постоянного участия человека в отладке построенной на машинном обучении онтологии и мониторинге возможных ошибок при работе интеллектуальных систем, использующих указанную онтологию» [12, с. 17].
Человек может стать участником правоотношений или быть ошибочно привлечен к ответственности (правда, то же самое не исключено и в обычной правовой практике). Исследователи обращают внимание на недопустимость использования только формальной логики в алгоритмах машиночитаемого права, так как это может привести к напряженности в обществе. Кроме того, человеку как участнику правоотношений должны быть ясны механизмы принятия решений, затрагивающих его интересы. Механизмы, отслеживающие логику принятия решения человеком, основываясь на историческом опыте, законодательной базе и прочих факторах, и механизмы, рассматривающие алгоритмы принятия решений искусственным интеллектом, особенно в части оспаривания обвинительных заключений, без учета человеческого фактора, различны. Только понимая, что представляют собой данные, на основе которых вынесено решение, и каким образом они получены, можно выстроить линию защиты или убедиться в их правомерности. Поэтому функция принятия решения о справедливости того или иного наказания должна сохраняться за человеком. Примечательно, что гражданам предоставлено право отказаться быть субъектом полностью автоматических решений [23]. Машиночитаемое право – результат деятельности коллектива специалистов, обладающих как инженерными навыками и навыками программирования, так и знаниями в области юриспруденции, логики, философских и практических аспектов права, основывающихся на исторических и культурных контекстах, обычаях и деловых практиках человечества. Это особенно актуально, когда «правосубъектностью наделяются так называемые цифровые сущности, технические устройства, функционирующие на основе программных продуктов (роботы)». Допускается определение «особого правового статуса для роботов в долгосрочной перспективе» [19, с. 9]. Тогда, как считает В.В. Миронов, появляется следующая проблема: «будет ли искусственный интеллект признавать равноправным человеческий интеллект или он будет вытеснен на периферию как не особо нужный?» [7, с. 92]. Нужен ли будет сам человек, если человеческий фактор мешает правильному функционированию механизмов? Проблема самоидентичности человека остается актуальной и в мире информационного капитализма, «где источниками власти служат анонимные сети и средства массовой коммуникации. … Мир отождествляется с сетью, и те (люди, организации, страны), кто оказался вне сети, лишаются мирового “гражданства”, в определенном смысле не существуют» [4, с. 36].
Появляются новые правовые стандарты, автономизируются сетевые сообщества, развиваются собственные ориентиры и системы ценностей, регулирующие поведение в сети, в интернет-сообществах. Программные алгоритмы и продукты все больше участвуют в механизмах социальной регуляции и практически составляют их основу. Подобные процессы носят глобальный характер, отдельные суверенные государства или региональные власти не способны определять политику, контролировать поведение в Сети. «Развитие электронных способов передачи информации привело к ослаблению контроля государства над своими границами, его способности обеспечивать исполнение закона в пределах своей территории» [4, с. 20]. С точки зрения исследователей, в современном мире понятие суверенитета стало неустойчивым.
Развивается идея о стремлении современных государств к надгосударственным образованиям. Например, эта тенденция прослеживается в научной сфере в образовании мегасайенс-про-ектов, которые являются крупнейшими надгосударственными научными комплексами, создаваемыми в рамках широкого международного сотрудничества. Понятие проекта класса «мегасайенс» утвердилось в начале ХХI в. и подразумевает долгосрочный проект, включающий как проектирование, так и строительство, испытания, введение в эксплуатацию, усовершенствование, использование оборудования для получения научных результатов, внедрение и использование научных открытий и разработок, развитие на базе основного проекта дополнительных ветвей исследования. «На всех этапах мегасайенс-проектов различными субъектами с различным правовым статусом осуществляется, помимо исследовательской, организационная, финансовая, контрольная, трудовая и иные формы деятельности. Все указанные группы общественных отношений требуют четкого нормативного оформления» [15, с. 53]. При этом пока еще не существует единого определения глобальных исследовательских инфраструктур. Достаточно полным представляется следующий вариант определения: «Это сооружаемые и эксплуатируемые в порядке международного сотрудничества (коллаборации) государств, международных организаций и иных акторов, не обладающих международной правосубъектностью (государственные агентства, научные институты, финансирующие учреждения), физически крупные, дорогостоящие, уникальные по своим техническим характеристикам комплексы оборудования, предназначенные для долгосрочных научных исследований, направленных на получение новых прорывных знаний, существенно дополняющих или изменяющих представления о действительности» [6, с. 131].
Ученые отмечают, что в законодательстве Российской Федерации не содержится определения категории уникальной научной установки класса «мегасайенс», а термин «уникальная научная установка» скорее совпадает с определением одного из видов глобальной исследовательской инфраструктуры. Также пока отсутствует «единая система нормативных правовых актов:
– регламентирующих деятельность субъектов (ученых, научных организаций, государств) в рамках реализации проектов класса “мегасай-енс” и особенности их правового статуса;
– определяющих организационно-правовые формы в рамках международных и национальных научных коопераций;
– выявляющих особенности бюджетного и внебюджетного финансирования уникальных научных установок класса “мегасайенс” за счет российских и зарубежных источников» [9, с. 41].
Мегасайенс как достаточно новое, но при этом активно развивающееся и актуальнейшее направление научного взаимодействия (общественной жизни) проходит этап становления правовых отношений. В разных странах существуют разные стратегии развития правовых аспектов мегасайенс (см. об этом, напр.: [21]). Так, именно понятию «мегасайенс» уделяется внимание в законодательстве Нидерландов и Чехии; в России данный феномен обозначается категорией «крупные исследовательские инфраструктуры», во Франции – «очень крупные исследовательские инфраструктуры», в Австралии – «знаковые исследовательские инфраструктуры» и т.д. Некоторые исследования указывают (см., напр.: [6, с. 138–139]), что кроме уникальности (научной, технической, инженерной), масштабности (например, диаметр тоннеля Большого адронного коллайдера (БАК) – 27 км, он проходит под землей на территории двух стран, только один из его детекторов (CMS) весит 12 500 т), затратности (например, затраты только на постройку БАК и его детекторов составили 4 332 млн швейцарских франков, затраты на постройку Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) в настоящее время оцениваются в 17 млрд евро), долгосрочности (например, проектирование ИТЭР началось еще в 1980-х гг., в 2006 г. подписана Конвенция о его строительстве, которое началось в 2010 г. На сегодня ориентировочный срок получения первой плазмы – 2025 г.), направленности на получение новаторских прорывных знаний об окружающем мире, человеческом разуме, существенно дополняющих или изменяющих представления о действительности, крупные исследовательские установки в некоторых странах учитывают также открытость доступа к инфраструктуре и признание уникальности этой установки со стороны вышестоящих органов (например, правительства в Чехии). В Австралии, помимо исследовательских инфраструктур небольших масштабов и знаковых исследовательских инфраструктур особо крупных размеров, решение о создании и финансировании которых принимает правительство, признается также существование наиболее крупной инфраструктуры – глобальной исследовательской инфраструктуры.
Некоторые страны используют уточняющие определения исследовательских инфраструктур. Например, Черногория идентифицирует существование не только крупных, но также средних и малых исследовательских инфраструктур. Польша признает стратегические инфраструктуры и на законодательном уровне стремится не только юридически зафиксировать стоимость объектов мегасайенс в денежном выражении, но и соотнести денежный эквивалент с родом деятельности инфраструктуры. Например, «150 тыс. польских злотых для аппаратуры в группе гуманитарных и общественных наук, а также в группе наук об искусстве и художественном творчестве; 500 тыс. польских злотых для аппаратуры в группе точных и инженерных наук, а также в группе наук о жизни» [21, с. 17].
Во Франции очень крупные исследовательские инфраструктуры и обычные исследовательские инфраструктуры имеют разные источники финансирования, но приоритет, несомненно, имеют международные очень крупные исследовательские инфраструктуры, и для их развития и международного престижа образованы специальные координирующие органы по вопросам мегасайенс на общегосударственном уровне. Аналогичные координирующие советы действуют, например, в Нидерландах, Чехии и других странах. Крупные исследовательские инфраструктуры финансируются из национальных бюджетов, однако даже такие развитые страны, как США, имея финансовый и интеллектуальный потенциал, осознают, что бюджета одной страны недостаточно для финансирования крупных международных установок класса «мегасайенс». Для достижения наибольшей эффективности научных разработок, усиления научного потенциала, распределения расходов, рисков и ответственности в ходе осуществления исследовательских проектов целесообразно привлекать иностранных партнеров, создавать коллаборации, осуществлять международное сотрудничество.
В России с 2011 г. существует Перечень критериев отнесения исследовательских установок к международным научным мегапроектам. Термин «мегасайенс» был закреплен в юридических документах в 2016 г. Шесть проектов в России подходят под определение уникальной научной установки класса «мегасайенс». В настоящее время в нашей стране международные исследования ведутся на четырех уникальных научных установках класса «мегасайенс»: Комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA; Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК; Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ); источник синхротронного излучения 4-го поколения ИССИ-4. На территории Российской Федерации также функционируют два научных комплекса, в состав которых входит не имеющее аналогов в мире оборудование, относящееся к классу «мегасайенс»: электрон-позитронный коллайдер Super Charm-Tau Factory и исследовательский термоядерный реактор с магнитным удержанием плазмы ИГНИТОР [16, с. 57].
Россия и российские научные организации в порядке международного сотрудничества активно участвуют в следующих проектах класса «мегасайенс», локализованных на территории других государств: Международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER); Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL); Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов (FAIR); Европейский центр синхротронного излучения (ESRF). Кроме того, наша страна с самого начала принимала участие в создании мегасайенс-у-становки Большой адронный коллайдер (ЦЕРН) и научных исследованиях на ней [15, с. 50].
Современные реалии требуют пересмотра правовых моделей, регулирующих деятельность коллективного субъекта познания, в данном случае – глобальных исследовательских инфраструктур, проектов мегасайенс. Такие модели многообразны, носят комплексный характер, основываются на международном, а также национальном законодательстве, различных нормативно-правовых актах внутри международных научных коллабораций. Регуляция деятельности по созданию и эксплуатации глобальных исследовательских инфраструктур, установок класса «мегасайенс» может принимать различные организационно-правовые формы:
– международные межправительственные организации проектного типа (например, Международный экспериментальный термоядерный реактор) и рамочного типа (Европейская организация ядерных исследований);
– национальные и транснациональные юридические лица, которые также могут быть использованы (и на практике используются) в целях создания интегрированных структур мегасайенс с участием научных организаций разной государственной принадлежности (например, Европейская гравитационная обсерватория);
– европейские консорциумы исследовательской инфраструктуры (для общеевропейских инфраструктурных проектов в научно-исследовательских целях) [21, с. 19–25].
Юридические лица (ЮЛ) создаются для совместного использования установок класса «мегасайенс» как альтернатива международным межправительственным организациям. В таком случае правовыми сторонами проекта мегасайенс становятся не сами государства, а их уполномоченные научные организации. «Правовая институционализация проекта мега-сайенс в форме национального ЮЛ может осуществляться тремя способами, с заключением международного договора или без такового» [21, с. 22]. Первый способ, отмечает А.О. Четвериков, подразумевает, что заинтересованные государства международным договором утверждают учредительные документы искомого ЮЛ. Таков, например, учредительный договор компании (общества) с ограниченной ответственностью по немецкому праву «ООО Установка Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах» (European X-Ray Free Electron Laser Facility GmbH) [21, с. 22–23].
Второй способ предполагает, что международный договор поручает разработку устава искомого ЮЛ уполномоченным научным организациям государств-сторон. Например, один из крупнейший в мире исследовательских реакторов для изучения нейтронов – находящийся во Франции «Институт Лауэ-Ланжевена» – «имеет под собой международно-правовую основу в виде Конвенции между правительством Французской Республики и правительством Федеративной Республики Германия о строительстве и эксплуатации реактора с очень высоким потоком частиц от 19 января 1967 г., к которой в 1974 г. присоединилась Великобритания» [21, с. 23].
Третий способ создания ЮЛ, строящего и эксплуатирующего исследовательскую инфраструктуру, не предполагает заключения международного договора. «В данном случае научные организации государств-участников самостоятельно утверждают учредительные документы ЮЛ в рамках предоставленной им своими государствами институциональной и финансовой автономии» [21, с. 23].
Реже используется формат юридических лиц с ограниченной и неограниченной ответственностью (например, гражданско-правовое общество «Европейский центр синхротронного излучения», подчиняющееся Гражданскому кодексу Франции), а также некоммерческих юридических лиц (например, фонды – такой как исследовательская установка «Немецко-Нидерландские ветряные туннели») [21, c. 26].
Анализируя отдельные правовые аспекты уникальных научных установок класса «мега-сайенс», можно выделить ряд моментов. Сфера мегасайенс – активно развивающийся топовый сегмент современной науки, обеспечиваемый механизмами бюджетного регулирования. Возникает необходимость в регулировании общественных отношений, складывающихся на разных стадиях функционирования проекта – от его возникновения до стадии использования результатов. Соответственно, необходимы нормативно-правовые акты, регулирующие сферу мегасайенс-проектов. Требуют отдельного исследования и документального закрепления определения таких терминов, как «научный проект класса “мегасайенс”», «уникальная научная установка класса “мегасайенс”» и др. Отдельному рассмотрению подлежит субъект исследования – автор. Остро стоит проблема авторского права, количественной оценки индивидуального вклада каждого автора, вопрос о признании научного знания результатом работы отдельного сознания или о распределенном характере знания. Понятие организатора или лидера исследования изменилось: если раньше это была наиболее авторитетная и значимая в науке фигура, ответственная за анализ данных, принимающая окончательные решения о публикации полученных результатов, контролирующая и направляющая работу в целом, распределяющая финансирование, то теперь лидерство перешло к корпоративному «исполнительному» или «коллаборационному» Совету, т.е. речь идет о децентрализованном авторстве, которое отражает новые условия производства знания [5].
Еще одна важная проблема в области мега-сайенс – как оценить вклад большой науки в социально-экономическое развитие общества? Мегасайенс-проекты требуют колоссальных вложений, в том числе и из государственных бюджетов стран. Государство может участвовать в проекте посредством денежных взносов и поставки оборудования. При этом проводятся фундаментальные исследования с отложенным эффектом, с работой на перспективу. Данные проекты не подходят под принятые в науке системы отчетности, для них требуется выработка иных, понятных для налогоплательщика норм отчетности, что поможет преодолеть кризис доверия к науке. Например, на деятельность Международной космической станции, являющейся одним из крупнейших международных проектов, к 2021 г. было потрачено около 150 млрд долл. США. В качестве «формальных» научных результатов работы было предъявлено 34 научных публикации и 4 патента, то есть каждая из статей «обошлась» в 4,4 млрд долл. США [1].
По каким критериям оценивается вклад науки в социально-экономическое развитие? Прежде всего, это трансфер технологий: показателем эффективности научной деятельности может служить количество технологий, реально работающих производств, инновационных решений. Кроме того, компании, занятые в реализации таких мегапроектов, как, например, ЦЕРН, повышают свой авторитет не только за счет совершенствования своей деятельности на столь значимых и ответственных объектах, но и за счет PR-эффекта от участия в мегасайенс-проекте. К социальным эффектам относится и подготовка высококвалифицированных научных кадров: так, заработная плата участвующих в деятельности ЦЕРН исследователей (правда, речь идет в основном о студентах и молодых ученых) на рынке труда повышается на 5-13% в зависимости от научной дисциплины [1].
Также приветствуется экономический эффект спин-оффов (англ. – побочный продукт, ответвление), то есть деятельность с использованием основных технологий мегасайенс-про-ектов. Ведется консультационная и образовательная деятельность по предпринимательству и созданию собственного бизнеса. Тем не менее, сложности, связанные с наглядностью положительных эффектов мегасайенс-проектов для рядовых налогоплательщиков, остаются.
Трудности возникают и внутри системы ме-гасайенс. Так, например, подпроект швейцарского междисциплинарного мегасайенс-про-екта «Инициатива по развитию системной биологии», предусматривавший создание централизованного репозитория данных для всех исследовательских групп проекта, не удалось реализовать из-за несогласованных действий IT-специалистов и исследовательских групп биологов [1]. В мировой практике используют- ся различные инструменты для получения обратной связи от исследователей: это создание специальных «пользовательских комитетов», которые включают работающих в проекте исследователей и выступают как коллективные органы, доносящие до руководящих органов возникающие проблемы и пожелания, проведение социологических опросов, а также неформальная обратная связь.
Учитывая описанные особенности функционирования мегасайенс-проектов, актуализируется и вопрос об ответственности за результаты деятельности коллективного субъекта науки. Могут ли члены коллабораций, знающие детали именно своей работы, своей области знания, быть полностью ответственны за конечный результат? Могут ли быть ответственны за него только члены коллабораций, выполняющие управленческие и контрольные функции, но не владеющие информацией о деталях проектов? Возникают спорные вопросы и в области авторского права: впервые они были поставлены еще в середине XX в., а в настоящее время ситуация только обострилась. Кроме того, с учетом неравномерности распределения знания между субъектами познания, которые имеют ограниченный доступ к частям объекта познания, а также нестабильности состава коллабораций, возникает вопрос о целостности коллективного субъекта науки как ответственного за результаты своей деятельности. Кто несет ответственность за опровержение ранее опубликованных открытий, имеющих большой научный резонанс и немалую стоимость исследований? «…Кто именно и что знает в том случае, когда коллаборация публикует утверждение об открытой частице? Ведь те члены коллаборации, которые знают детали той или иной техники, мало представляют ситуацию в целом, а те, которые контролируют целостность, не владеют деталями», – отмечает В.С. Пронских [13]. Так, если взять Европейский консорциум исследовательских инфраструктур (European Research Infrastructure Consortium, ERIC) в качестве примера новой уникальной организационно-правовой формы юридических лиц, используемых в научно-исследовательской деятельности, в том числе в мегасайенс-проектах, можно обратить внимание, что ЕС, а также члены консорциума не несут ответственности по обязательствам ERIC. Тем не менее, поскольку функционирование исследовательской инфраструктуры может быть сопряжено с серьезны- 136
ми рисками для людей (например, когда речь идет об исследовательских ядерных реакторах и аналогичных установках, порождающих радиоактивное излучение), предусмотрено, что «ERIC заключает надлежащие договоры страхования с целью покрытия рисков, связанных со строительством и функционированием инфраструктуры» [20, с. 146].
Сложноорганизованная коллективная практика подводит к идее коллективной ответственности (в синонимичном контексте употребляются понятия корпоративной, групповой, солидарной, институциональной, метаинсти-туциональной ответственности [11, с. 76]) и порождает проблемы несправедливого распределения ответственности между членами группы. Будет ли это солидарная или пропорциональная ответственность? Если пропорциональная, то как определить степень участия – по вкладу в объект исследования, по степени наделенности властью, по времени участия? Рассматривая социально-правовые аспекты деятельности коллективного субъекта, следует обратить внимание на такой значимый факт при определении вины, как намерение. Критики коллективной ответственности определенно заявляют, что коллективного намерения быть не может, как и моральной ответственности целой группы. И намерение, и моральная ответственность – понятия, которыми наделяется только индивид. В случае же коллективного действия субъект не несет единоличной ответственности, ведь обязанности, которыми он наделен, не требуют высокой степени осмысления действий коллективного или индивидуального субъекта, результат коллективных действий неочевиден, способность предвидеть последствия своих действий уменьшается, чувство ответственности ослабляется.
Итак, мегасайенс-проекты вызвали глобальную трансформацию культуры научного взаимодействия. Они показали необходимость объединения ученых, работающих над общими целями, важность поиска эффективных механизмов равноправного общения, регулирования отношений в социально-правовой сфере. Возможно, вовлеченность государств в международные проекты, совместное, коллективное вложение и использование материальных, физических, интеллектуальных ресурсов, справедливое нормативное регулирование данных процессов помогут преодолеть напряженность в обществе и работать на благо всего человечества.
Список литературы Социально-правовые аспекты глобальных исследовательских инфраструктур
- Андреева Н. Мегауправление для мега-проектов // Атомный эксперт. 2022. № 9. URL: https://atomicexpert.com/mega-management_for_ megaprojects
- Аршинов В.И., Буданов В.Г. Онтологии и риски цифрового техноуклада: к вопросу о представлении социотехнического ландшафта // Сложность. Разум. Постнеклассика. 2019. № 2. С. 51-60.
- Атаманов С.А., Косаруков З.С. Что за машиночитаемое право? // Учет недвижимости. 2021. 6 августа. URL: http://кадастр.москва/news/669
- Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013.
- Галисон П. Коллективный автор // Вопросы философии. 2018. № 5. С. 93-113.
- Кожеуров Я.С., Теймуров Э.С. Понятие, признаки и правовая природа глобальной исследовательской инфраструктуры // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 9. С. 130-141.
- Миронов В.В. Погружение в дигиталь-ную пещеру Платона? // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2020. № 6. С. 80-93.
- Мисостишхов Т.З. Персонализированное право и фундаментальные права // Цифровое право. 2020. Т. 1. № 4. С. 56-73.
- Мошкова Д.М., Лозовский Д.П. Правовые аспекты реализации мегасайенс-проектов // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. № 7. С. 34-41.
- Петрова Е.В. Образ информационного общества в культуре: оптимизм сменяется пессимизмом? // Вопросы философии. 2021. № 8. С. 25-35.
- Платонова А.В. Субъекты морального сознания в современном обществе: о типах коллективной ответственности // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 373. С. 75-79.
- Проект «Сколково». Концепция развития технологий машиночитаемого права. URL: https://sk.ru/media/documents/29.03.2021._Кон-цепция_МЧП._Внесение_после_РГ.pdf
- Пронских В.С. Коллаборация большой науки как вызов трансцендентальному субъекту // Вопросы философии. 2018. № 5. С. 88-92.
- Савельев А.И. На пути к концепции регулирования данных в условиях цифровой экономики // Закон. 2019. № 4. С. 174-195.
- Ситник А.А., Ткаченко Р.В. Правовое регулирование финансирования мегасайенс-про-ектов // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 5. С. 48-64.
- Ткаченко Р.В. Финансово-правовые отношения и ключевые юридические категории в сфере мегасайенса // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 5. С. 55-62.
- Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 9. С. 5-16.
- Хабриева Т.Я. Введение // Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Будущее права. Наследие академика В.С. Степина и юридическая наука. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. С. 20-30.
- Хабриева Т.Я. Идентификация права в современной социальной регуляции // Вопросы философии. 2021. № 12. С. 5-17.
- Четвериков А.О. Европейские консорциумы исследовательской инфраструктуры: международные организации по европейскому праву или юридические лица sui generis? // Lex Russica. 2019. № 7. С. 141-150.
- Четвериков А.О. Организационно-правовые формы большой науки (мегасайенс) в условиях международной интеграции: сравнительное исследование. Ч. 1 // Юридическая наука. 2018. № 1. С. 13-27.
- Bender, P.M., 2020. Limits of personalization of default rules: towards a normative theory. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=3544029
- Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
- United Nations General Assembly. Resolution 68/167 «The right to privacy in the digital age». URL: https://digitallibrary.un.org/ record/764407