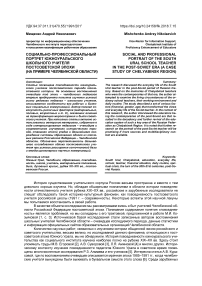Социально-профессиональный портрет южно-уральского школьного учителя постсоветской эпохи (на примере Челябинской области)
Автор: Мищенко Андрей Николаевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена повседневности южноуральского учителя постсоветского периода отечественной истории. На основании воспоминаний очевидцев той эпохи - челябинских педагогов впервые предпринята попытка изучения условий жизни рядового педагога - школьного учителя, описываются особенности его рабочих и бытовых социальных коммуникаций. Автор показал совокупность различных факторов (материальных, половых, возрастных и т. д.), оказавших влияние на трансформацию мировоззрения и быта советского учителя. При написании статьи активно использовались авторские материалы, собранные в ходе интервьюирования педагогов - очевидцев и современников изучаемого исторического периода, ставшего эпохой упадка и дальнейшего возрождения системы образования одного из ключевых районов Российской Федерации - Челябинской области. Обозначена перспективность дальнейшего исследования облика постсоветского учителя при условии расширения источниковой базы и междисциплинарных научных коммуникаций.
Южный урал, челябинск, образование, повседневность, быт, школа, учитель, материальное положение, духовный кризис, рубеж xx-xxi вв, постсоветская Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/14941555
IDR: 14941555 | УДК: 94:37.011.31(470.55)“1991/201” | DOI: 10.24158/fik.2018.7.15
Текст научной статьи Социально-профессиональный портрет южно-уральского школьного учителя постсоветской эпохи (на примере Челябинской области)
История существования учительского корпуса России весьма пространна и вместе с тем довольно хорошо изучена. Но, обладая обширными познаниями в области истории повседневности отечественного учителя рубежа XIX–XX вв., российские и зарубежные исследователи не спешат обследовать такой историко-культурный феномен, как повседневность постсоветского учителя российской школы (1991 г. – современность). Некоторые аспекты этой научной лакуны мы попытаемся восстановить в своей работе.
В качестве объекта исследования мы рассматриваем жизнь и быт учителей Челябинской области Российской Федерации постсоветской эпохи. Понимание содержания понятия «повседневность» является проблемой, но мы солидарны с его трактовкой, предложенной в работе М.И. Ко-зьяковой [1, с. 3]. Источниковой базой исследования стали записанные автором воспоминания школьных учителей Челябинской области – очевидцев исследуемого периода, данные статистики и информация официальных сайтов образовательных организаций Челябинской области.
Количество научных работ, связанных с изучением истории обыденной жизни российского и советского учительства, весьма велико, но исследований данного феномена, относящихся к постсоветской эпохе Южного Урала, мы не обнаружили. История повседневности южноуральского учительства как социального института изучена наиболее полно на рубеже XIX–XX вв. Здесь стоит упомянуть труды М.В. Егоровой [2], А.В. Суворовой [3], Л.Я. Аминовой [4] и многих других. Историческому контексту изучения повседневности педагогов Южного Урала в советское время посвящены многочисленные исследования Р.З. Алмаева и его учеников [5]. Интересна статья А.В. Кура-совой, где по воспоминаниям очевидцев описывается мрачная эпоха 1985–1991 гг., когда челябинские учителя вынуждены были выживать в буквальном смысле этого слова [6]. Среди зарубежных авторов, анализирующих вопросы истории жизни и быта российского учительства, следует отметить работу Б. Эклофа, посвященную анализу истории русской школы второй половины XIX – начала XX в. Автор отдельную главу посвятил жизни учителей в деревне, характеру их отношений с сельским сообществом [7].
В Челябинской области в настоящее время трудится 29 330 педагогических работников (в том числе более 25 000 учителей) в 842 общеобразовательных организациях [8]. С 2000 по 2011 г. в Челябинской области в связи с резким сокращением числа учащихся наблюдалась отрицательная динамика количества школ и школьных учителей: было закрыто порядка 300 школ [9; 10], работу потеряли 14 000 учителей. Но с 2011 г. по настоящее время ситуация по двум вышеописанным процессам изменилась в лучшую сторону: школы начали открываться, а численность учительского корпуса – расти [11].
Опишем социально-профессиональный портрет школьного учителя того времени. В учительской среде преобладали женщины, что было обусловлено их численным доминированием еще со студенческой скамьи. Так, например, в Челябинском государственном педагогическом университете (до 1995 г. – Челябинском государственном педагогическом институте) на рубеже XX–XXI вв. девушки составляли 75 % студентов [12, с. 150–151]. В настоящее время показатель феминизации составляет около 90 % и близок к 100 % в отношении преподавателей-филологов, биологов и математиков [13, с. 180]. Такое гендерное доминирование во многом предопределяло характер взаимоотношений учителя на работе и вне ее, который также был обусловлен вторым значимым показателем: возраст самой большой по численности (43 %) группы педагогов – от 40 до 50 лет, остальные группы (от 25 до 40 лет и от 50 до 60 лет с шагом в 5 лет) равночисленны и составляют почти 10 %, количество учителей-ветеранов старше 60 лет, по нашим подсчетам, не превышает 5 % от общего числа.
Вторым фактором, обусловившим своеобразие повседневности южноуральского учителя постсоветской эпохи, стало бедственное материальное положение, наступившее после 1988 г. и постепенно исправляемое стараниями федеральной и местной власти в XXI в. Как отметил П.О.В., « учителя и не жили богато », но большинство опрошенных нами школьных учителей обозначили свое финансовое положение после распада СССР как критическое по причине деноминации национальной валюты и регулярных длительных задержек заработной платы. Крах советской экономики и неумелое и долгое созидание российского рыночного хозяйства привели к тому, что среди учителей « нищета стала хронической », они голодали.
В 1990-е гг. по причине отсутствия денежных средств расчеты с педагогами повсеместно производили в натуральной форме – товарами народного потребления, стоимость которых была эквивалентна размеру оплаты труда в денежном выражении. М.Е.А. вспоминает, как в 1993 г. по причине отсутствия денежных средств расчет с ней произвели набором алюминиевой посуды. В воспоминаниях фигурируют также постельное белье, мужские костюмы, сигареты «Прима». Иногда вместо денег учителям давали купоны на низкокачественную китайскую синтетическую одежду и обувь, различный ширпотреб. Ярким воспоминанием К.Е.А. была выплата зарплаты монетами: «… привезли много мешков мелочи. Бухгалтерия попросила у завхоза ведра, в которые ее и пересыпали. Из ведра монеты пересыпали в полиэтиленовые мешки. Каждый получил свой пакет. Он был очень тяжелый, я не смогла донести его до дома, и мне помогли. ..».
Отсутствие продовольствия в государственных магазинах, непомерные цены на еду в новых кооперативных магазинах, наличие продовольственных талонов, которые негде и нечем было отоварить, многочасовые очереди за продуктами питания – все это определяло пищевой рацион школьного учителя. Педагоги и их семьи питались макаронами и картофелем, кабачковой икрой, редко молочными продуктами и мясом: « Наша семья из трех человек в праздник обедала тремя котлетами ». Позднее учителя стали питаться «ножками Буша» – куриными окорочками глубокой заморозки иностранного производства. Питание педагогов села было значительно лучше благодаря ведению ими подсобного хозяйства и более тесным социальным связям. На работе, где проходила большая часть дня учителя, прием пищи проходил в столовой образовательной организации, но « чувство голода наступало уже через час-два как поешь - питание было низкокалорийным и позволяло только притупить его… ». «Передовикам» педагогического труда изредка выдавали продуктовые наборы, включавшие сахар, консервы, крупы. Праздником для учителя было посещение кооперативного кафе: «… Один раз сходили мы в первое негосударственное кафе Челябинска, открывшееся на углу Каслинской и проспекта Победы. Какие там были окрошка и манты! » Но один такой поход наносил непоправимый урон бюджету педагога и вынуждал его к переходу в режим жесткой экономии. П.О.В. вспоминает, что в их школе был предложен весьма оригинальный способ обеспечения учителей продовольствием – всем желающим по 50 копеек предлагались двухнедельные цыплята, которых следовало откормить.
Насыщение и развитие продовольственного рынка России позволило к концу 1990-х гг. решить продовольственный кризис. Аналогичная ситуация имела место и по обеспеченности учительского корпуса одеждой и обувью: одежду шили сами (по выкройкам журнала мод Burda), ездили за ней в Москву, кто мог себе это позволить, и приобретали независимо от ее размера, а с 1994–1995 гг. пошли поставки обуви и текстиля, кожи из Китая, Турции, Польши. К началу XXI в. этот сегмент рынка также насытился.
Сложнее обстояло дело с предметами долгосрочного пользования, транспортом и объектами недвижимости. Никто из опрошенных нами личным транспортом до 2008–2011 гг. не владел – все пользовались общественным либо передвигались пешком. Деноминация советских денежных знаков имела единственный плюс: учителя, купившие жилье в СССР с помощью жилищно-строительных кооперативов с рассрочкой платежа на длительный срок, смогли без какого-либо самоограничения единовременно погасить многолетний долг в этот период. Распад Советского Союза и наступившая нищета ликвидировали летний отдых учителя: «… ездить стало некуда и не на что ». Новая российская власть жилья учителям не давала, а средств на его покупку не было. Формирование рациональной финансовой системы России, укрепление курса национальной валюты, оптимизация системы оплаты труда школьных учителей, особенно с 2011 г., после перехода на отраслевую систему оплаты труда, и решение Правительства Российской Федерации о повышении заработной платы учителей позволили части учителей-предметников (около 70 % опрошенных) приобрести недвижимость и транспортные средства, отдыхать за рубежом, но преимущественно в кредит или по ипотечным программам.
Учителя всячески пытались обеспечить себе достойное существование, ища подработки. Так, последнее десятилетие прошлого века положило начало коммерческому образованию постсоветской России: сначала в виде платных групп по предметам, которых не было в образовательной программе, а затем уже широко и повсеместно в форме индивидуального репетиторства: сейчас периодически такая подработка имеет место у 37,5 % респондентов. Учителя после школы трудились преимущественно в сфере торговли, работая продавцами, грузчиками, рубщиками, сторожами, уборщицами. В.А.Н. вспоминает, что оплата ее труда стала приемлемой при максимальной нагрузке, составлявшей 2 ставки (36 часов в неделю), классном руководстве и совмещении. В настоящее время 57 % педагогов являются внутренними или внешними совместителями одновременно со своей основной работой. Долгий рабочий день вкупе с работой после окончания занятий, по словам опрошенных, были основной причиной разрушения браков учителей либо их семейной несостоятельности, а также педагогической запущенности детей учителей. М.Е.А. вспоминает, что «… соревнование, кому больше учебных часов достанется, закончилось для многих моих коллег разводом и семейными проблемами …».
Свобода, пришедшая на смену коммунистической идеологии, подорвала духовные традиции, нормы и мораль общества, ослабила взаимосвязь поколений. Именно непреодоленный духовный кризис, кризис как мировоззрения каждого отдельного учителя, так и содержания всей педагогической культуры постсоветской России стал третьим фактором, характеризующим настоящее школьного учителя. Как верно подметили Р.М. Асадуллин и О.В. Фролов, этот кризис проявляется в «…истончении духовных и нравственных оснований педагогической культуры, нарастании нравственно неуправляемого потока социальной и профессиональной информации, приводящего к сущностным изменениям в духовном мире педагога, его менталитете, психике, системе ценностей» [14]. Сильнее всех от этого пострадал школьный учитель: кардинально изменилось его социальное положение – из уважаемого носителя культурных ценностей и социального опыта он стал малозначимым предоставителем образовательных услуг. Трансформировавшаяся система ценностей постсоветской России, где абсолютной доминантой стали деньги, а не труд и знания, стала мерилом социального статуса педагога: « нас унизили зарплатой - мы, нищие, перестали что-либо собой представлять …». Эпоха перестройки и последующий период привели к повсеместным межличностным конфликтам между учителями и учениками, а отчасти и родителями учеников: « Сначала старшеклассники начали с нами (учителями. - А. М.) “разговаривать”, а потом некоторых начали откровенно гнобить. Родители от наших жалоб теперь отмахивались ». Многие учителя ушли из школы, не сумев преодолеть кризис профессиональной идентичности, но 59 % из числа современных школьных учителей Южного Урала пришли работать в школу еще при СССР. Повышение размера оплаты труда и относительное увеличение количества социальных льгот, предпринятые в XXI в., позволили скорректировать эту профессиональную деформацию. Отчасти кризис был преодолен посредством религии: 79 % современных педагогов считают себя верующими. В качестве инструмента социального лифта школьные учителя использовали партийную принадлежность – 23 % из них являются членами политических партий России.
Учительская корпорация в постсоветское время прошла суровые испытания, определившие ее современный облик. Она сократилась количественно, но качество ее остается высоким – более 95 % учителей имеют высшее образование. По-прежнему актуальны такие явления, как феминизация, коллективизм и т. д. Бесспорно, уровень дохода, фиксируемые педагогом собственные социальные позиции, адаптационный ресурс взаимосвязаны с местом, которое определяет учитель для себя и своих коллег по следующим критериям: заработная плата, престиж профессии, социальная и правовая защищенность [15]. Государство прикладывает силы и средства для восстановления статуса педагога в обществе с помощью оптимизации вышеупомянутых критериев, но мировоззренческая деформация постсоветского школьного учителя, на наш взгляд, не преодолена.
В своей работе мы частично осветили процесс формирования социально-профессионального портрета современного учителя Южного Урала через последовательность прохождения им стадий длительного упадка, стагнации и медленного возрождения общества. Полагаем, что исследование данного феномена весьма перспективно при условии расширения источниковой базы и междисциплинарных научных коммуникаций.
Ссылки и примечания:
Список литературы Социально-профессиональный портрет южно-уральского школьного учителя постсоветской эпохи (на примере Челябинской области)
- Козьякова М.И. Эстетика повседневности. Материальная культура и быт Западной Европы 15-19 веков. М., 1996. 176 с.
- Егорова М.В. Растительная жизнь педагога//Родина. 2008. № 11. С. 102-108.
- Суворова А.В. Повседневность учителя начальной школы Южного Урала (1901-1914 гг.)//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 5, ч. 1. С. 168-170.
- Аминова Л.Я. Генезис женского образования в Башкирии (вторая половина XIX -начало XX в.): автореф. дис. … канд. пед. наук. Уфа, 2005.
- Алмаев Р.З. Советское учительство на Южном Урале в 1941-1991 годы [Электронный ресурс] : карточка проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом. URL: http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201oC0G00Ja-vI0E009Y2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm (дата обращения: 22.05.2018).
- Алмаев Р.З. Школьное образование в Республике Башкортостан в 30-е годы: автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 1999. 20 с.
- Курасова А.В. Повседневная жизнь учителей в 1985-1991 гг. (по материалам Ленинского района г. Челябинска)//VII Емельяновские чтения: материалы Всерос. науч. конф. Курган, 2014. С. 114-116.
- Eklof B. Russian Peasant Schools: Officialdom, Village Culture and Popular Pedagogy, 1861-1914. Berkley; Los Angeles; L., 1986. 652 p.
- Справка о состоянии системы образования Челябинской области на 6 июля 2018 г.
- Статистический ежегодник по Челябинской области: стат. сб./Челябинскстат. Челябинск, 2016. 510 с.
- Локтева М.Н. Облик регионального студенчества конца XX в. (по материалам Южного Урала) //XX век и Россия: общество, реформы, революции: электрон. сб. Вып. 1. Ч. I. Самара, 2013. С. 149-161. URL: https://readera.ru/140129606 (дата обращения: 22.05.2018).
- Асадуллин Р.М., Фролов О.В. Кризис педагогической культуры и некоторые задачи современной педагогической мысли//Образование и наука. 2017. Т. 19, № 2. С. 9-31. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2017-2-9-31.
- Шляков Д.В. Социально-профессиональная идентификация учителя: социологический анализ: дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д., 2008. 172 с.