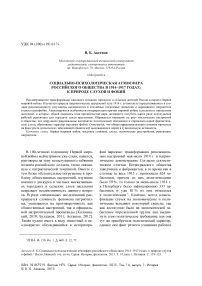Социально-психологическая атмосфера российского общества в 1914-1917 годах: к природе слухов и фобий
Автор: Аксенов Владислав Бэнович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются трансформации массового сознания городских и сельских жителей России в период Первой мировой войны. Изучается природа патриотических настроений лета 1914 г. в контексте нереализованного в столице революционного энтузиазма, вылившегося в стихийные погромные движения и окрасившего патриотизм в цвета ксенофобии. Анализируются особенности интерпретации причин мировой войны сельскими и городскими жителями, в которых общей оказалась тема предательства царя, желавшего погубить народ ради недопущения рабочей революции или передачи земли крестьянам. Обращается внимание на рост мистических настроений в обществе, что затрудняло рациональное восприятие политической обстановки и порождало порой фантастические слухи, обретавшие характер массовых фобий. Отмечается, что общая иррационализация сознания протекала на фоне роста психических заболеваний обывателей, выливавшихся порой в суицидальную активность.
Первая мировая война, массовое сознание, слухи, психические расстройства, революция, патриотизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147219216
IDR: 147219216 | УДК: 94
Текст научной статьи Социально-психологическая атмосфера российского общества в 1914-1917 годах: к природе слухов и фобий
В 100-летнюю годовщину Первой мировой войны мейнстримом уже стали, кажется, разговоры на тему незаслуженного забвения подвига российского солдата, тесно связанную с патриотической тематикой. Вместе с тем более обстоятельное погружение в проблему общественных настроений, изучение военного дискурса в частных высказываниях городских и сельских слоев населения вскрывает неоднозначность данного вопроса. В ряде специальных исследований раскрывается сложность феномена патриотизма, указывается на противоречивость как общественных настроений, так и официальной патриотической пропаганды [Колониц-кий, 2010; Булдаков, 2011; Асташов, 2012]. Также нужно иметь в виду известный и неоднократно обсуждавшийся в историогра- фии парадокс: трансформация революционных настроений мая-июля 1914 г. в патриотические демонстрации. Согласно статистическим отчетам Петроградского общества заводчиков и фабрикантов, в то время как в столице за весь 1913 г. произошло 624 забастовки, причем из них политическими было 59 %, то только за июнь-июль 1914 г. в Петербурге было зафиксировано 337 забастовок и уже 81 % из них относился к политическим 1. Конечно, метод классификации стачек на экономические и политические вызывает некоторый скепсис, так как достаточно было на экономической забастовке определенной группе лиц выдвинуть одно политическое требование, как она тут же приобретала политический характер, однако сам факт резкого учащения рабочих акций протеста в июльские дни заставляет обратить на себя внимание. За весь 1913 г. количество потерянных рабочих дней составляло 3 868 257, в то время как в 1914 г. (фактически за первые полгода, так как число забастовок после начала войны резко сократилось) – 5 755 072. Примечательно, что количество потерянных рабочих дней за революционный 1917 г. было «всего» 3 822 656 [Мировая война в цифрах, 1934. С. 28]. В июле в столице на Выборгской стороне возводились баррикады, рабочие вступали в вооруженное противостояние с полицией, начинались перебои с трамвайным движением. В частной корреспонденции обыватели делились друг с другом уличной молвой и делали прогнозы о надвигавшейся революции: «Что теперь делается у нас в Петербурге, близко к тому, что у вас было в Москве в 1905 году», «Революция стучится в дверь», «Это не революция, до революции еще далеко, но это грозный симптом» 2.
Однако 19 июля в Петербурге прошла известная патриотическая манифестация, закончившаяся коллективным коленопреклонением перед Зимним дворцом. Кроме того, в обществе начинала развиваться германофобия, одним из первых симптомов которой стал разгром немецкого посольства 22 июля. В тот день толпы народа от Невского проспекта направились к зданию немецкого посольства, разбив по пути окна немецкой газеты «Цейтунг», витрины магазина, сорвав флаги с ресторана «Вена». Германское посольство было разгромлено как снаружи, так и внутри. На месте был убит застигнутый в здании немецкий подданный, переводчик посольства А. Кетнер, в котором массовое сознание «патриотов» тут же опознало шпиона (говорили, что его застали в момент, когда он сжигал какие-то бумаги). Затем толпа, разбив скульптуры атлетов на фасаде здания, сорвала германский герб и отправилась топить его в Мойке (Петербургский листок. 1914. 23 июля). Периодическая печать сочувственно отнеслась к подобному выражению народного гнева, оправдав действия толпы тем, что люди были возмущены оскорбительными действиями немцев по отношению к вдовствующей императрице Марии Федоровне, чей поезд, направлявшийся из Дании в Россию, был задержан в Берлине и отправлен обратно в Копенгаген. Кроме того, газеты упоминали об аналогичных эксцессах, произошедших с русским посольством в Берлине: после отъезда посла С. Н. Свербеева немецкая толпа ворвалась в посольство и разгромила его и православную церковь (Московский листок. 1914. 9 авг.). Российская полиция предпочитала не вмешиваться в проявления народного патриотизма, хотя официально проведение любых митингов и демонстраций в Петербурге было запрещено.
Если первоначально М. Г. Флеер и Б. Граве вслед за В. И. Лениным отказывались признавать «шовинистический угар» пролетариата в июльские дни [Ленин, 1969. Т. 25. С. 450; Т. 26. С. 331; Флеер, 1926. С. 6–7; Граве, 1926. С. 89], то затем исследователи вынуждены были констатировать известную увлеченность рабочими патриотическими лозунгами. Так, И. Меницкий характеризовал настроения московских рабочих на начальном этапе войны: «Монархистам совместно с кадетами удалось на первых порах отравить ядом шовинизма значительную часть рабочего класса, не говоря уже о мелкобуржуазном мещанстве, которое с восторгом встречало всякую ура-патриотическую манифестацию, состоящую из шпиков, проституток и воров» [1925. C. 63]. Эта концепция сохранялась и в 1970-х гг., в частности, в работах И. П. Лейберова, считавшего, вслед за Меницким, что «шовинистический угар ослабил революционную энергию пролетариата» [1979. С. 26]. Однако если в 1920-е гг. преобладала концепция «молчания рабочего класса как антивоенного протеста» и историки по крупицам собирали информацию об антивоенных митингах рабочих в первые месяцы войны, пытаясь доказать сохранение классовой сознательности [Флеер, 1926. С. 7], то впоследствии Ю. И. Кирьянов писал о сильно преувеличенной в историографии роли антивоенных стачек, а беспорядки в период мобилизации охарактеризовал в качестве стихийных пьяных бунтов [1994. С. 43–52; 2005]. При этом С. В. Тютюкин отмечал, что летом-осенью 1914 г. «отношение пролетариата и различных социалистических течений к войне еще только выкристаллизовывается из хаоса противоречивых мнений», оправдывая рабочих, поддавшихся патриотической пропа- ганде, тем, что и среди большевиков имели место колебания и споры [1972. С. 10].
Парадокс может быть легко разрешен, если мы разведем два термина: революционная активность и хулиганство. Последний, в котором проявляется стихийная, иррациональная природа индивида, оказывается более удачным для характеристики поведения представителей низших городских слоев весной-летом 1914 г. Если переворачивание трамваев с целью постройки баррикад можно было отнести на счет сознательной революционной активности, то начавшаяся волна погромов торговых заведений ей противоречила. Так, например, 7 июля толпа рабочих в количестве около 3 000 чел. подошла к ресторану «Выборг» и перебила в нем стекла; ночью 10 июля были разбиты все фонари на Забалканском проспекте; та же толпа громила попадавшиеся на пути магазины, рестораны и пивные (Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 11 июля). Большая толпа рабочих 11 июля разгромила трактир «Бережки», разбив все оконные рамы, она перешла к расположенному поблизости трактиру «Яр», где также начался разгром. Лишь подоспевшие казаки, пустив в ход нагайки, прекратили дальнейшее уничтожение трактиров и пивных лавок. Концентрация фактов столкновений рабочих и полиции рядом с местами продажи алкогольной продукции не кажется случайной. В рамках борьбы с подобными формами протестной активности рабочих власти столицы пошли на закрытие всех питейных заведений в городе [Меницкий, 1925. С. 39–40]. Петербуржцы писали в частных письмах накануне войны: «У нас в Петербурге разыгралась даже не забастовка, а прямо хулиганская оргия, которая окончательно вооружила против себя всех благоразумных людей»; «В Петербурге – гнусные времена. На три четверти все манифестации хулиганские, а что еще хуже, так это заражение рабочей среды националистическим духом»; «Тебя интересуют наши июльские дни. Разочаруйся, голубчик, они прошли до нельзя отвратительно. Вещи идейные нельзя переплетать с хулиганскими выходками, а это то последнее в наших июльских днях и преобладало» 3 . Наличие в среде бастовавшего пролетариата определенного числа безыдейных рабочих, вносивших в протестные акции анархический элемент хулиганства, во многом объясняет вышеупомянутую зависимость забастовок от стихийных внеполитических факторов, делающих неблагоприятные погодные условия серьезным препятствием на пути запланированной акции протеста.
Взгляд на «патриотические» митинги июля-августа 1914 г. с точки зрения делинквентной активности горожан не обнаруживает той пропасти между «революционными» и «патриотическими» действиями, которая кажется значительной в случае применения упрощенного идеологического подхода. Да и с точки зрения политических идеологий не все было однозначно: над патриотическими манифестациями второй половины июля 1914 г. звучала причудливая какофония из «Боже, царя храни» и «Варшавянки». Петербургский студент описал толпу во время «патриотического» шествия 19 июля 1914 г.: «Сегодня утром Миша отрывает меня от занятий и зовет на балкон посмотреть, какая надвигается со стороны Лавры большая толпа. Что же я увидел и услышал? Рабочие, запасные и провожающие их поют Марсельезу со словами “Царь вампир пьет народную кровь…”, которые, ты знаешь, для царя нелестны. Не особенно приятны для него Варшавянка и похоронный марш, которые они пели. При пении похоронного марша офицеры и городовые снимали фуражки. Естественно, я выбежал на улицу и присоединился к густой толпе» 4.
Официальная печать вела пропаганду патриотических настроений. Усердствуя в этом деле, некоторые журналисты позволяли себе достаточно вольные интерпретации наблюдаемых на улицах городов сценок. Так, в «Петербургском листке» была опубликована статья «Первый день мобилизации в столице», в которой помимо общих слов о высокой сознательности новобранцев в подтверждение охватившей всех патриотической эйфории приводились случаи, как жены вагоновожатых и кондукторов снимали своих мужей с вагонов, вручая им повестки и отправляя на призывные пункты (Петербургский листок. 1914. 19 июля). Вместе с тем изучение перлюстрированной корреспонденции позволяет сделать вывод, что определенная часть призывников стреми- лась всяческими способами избежать призыва. Так, например, родственники сообщали неверные сведения о местонахождении призывника явившимся с повесткой чинам, сами призывники увольнялись с работы, оставляя начальству ложные данные о новом месте работы, скрывались по поддельным документам, пытались даже бежать за границу 5.
В то время как печать последовательно внушала идею, согласно которой мобилизация представлялась чуть ли не общенациональным праздником, перлюстрированная частная корреспонденция создавала несколько иные образы. Картина «патриотического» подъема из смеси человеческого горя в связи с мобилизацией и хулиганских инстинктов была нарисована в письме из Москвы от 22 июля некой «Варей»: «Если бы ты, дорогой Ш., знал, что у нас делается! В городе тоска, – стыдно смотреть, кругом горе, всюду едут, идут с узлами, глаза заплаканные, женщины кричат. Где же подъем, о котором пишут газеты? Везде чувствуется, что войны не хотят. Ты, наверное, читаешь про оживление, про манифестации. Вечером ревут, – жутко становится, – двери запирают. Представь себе толпу без конца из подростков и хулиганов и полицейских. Лица неинтеллигентные, красные носы, нахальные глаза. Кричат, а сами смотрят, кому бы в зубы дать. Сегодня получила письмо из деревни, пишут: кругом один ужас, крики, стоны, рыдания не прекращаются… Я ненавижу войну, но не думаю, как Леля, что идти в сестры на войну значит признавать ее» 6. В одном из частных писем из Екате-ринослава в Москву от 5 августа 1914 г. автор нарисовал типичную картину российского провинциального города периода мобилизации: «Начну с настроения русских доблестных войск или, вернее, мобилизованных рабочих и крестьян. Об энтузиазме речи быть, конечно, не может, даже прыткие корреспонденты и сотрудники “Русского слова” черпают свой энтузиазм скорее в редакционных комнатах, чем от общения с воспылавшей патриотическим гневом толпой.
Какой уж там энтузиазм. За все время мобилизации, шатаясь по городу, могу сказать, что не видел не только энтузиазма, но даже не встречал просто веселой физиономии. Если бы была возможность опрашивать всю эту разношерстную публику, то наверное мы бы получили курьезнейшие ответы относительно причин войны; полная апатия по отношению к личности и намерениям внешнего врага и очень осмысленное и яро враждебное отношение к внутреннему врагу – в первую очередь к полиции. Полицию всюду встречали камнями и кошачьими концертами. Здесь полицейских сняли с многих постов, дабы не возбуждать запасных. В первый день мобилизации здесь было крупное столкновение со стражниками. Убито было 3 и ранено 3. Дней пять тому назад вышло распоряжение, запрещавшее запасным ездить бесплатно на трамваях. Для поддержания порядка поставили городовых на каждый трамвай. Запасные взяли штурмом вагоны, повыкидали городовых и навели панику на полицию. Вызвали солдат и вооруженных стражников, приехал Губернатор, который обещал на другой день пустить несколько вагонов специально для запасных» 7.
Усилия властей в деле патриотической пропаганды разбивались о несколько факторов: это и неграмотность значительной части населения, и отсутствие единой стратегии пропаганды, и недооценка особенностей массового сознания отдельных социальных групп населения. Так, большинству российских крестьян, для которых остро стоял земельный вопрос, были чужды такие абстрактные категории, как патриотизм, отечество (более подробно о массовом сознании крестьян см: [Аксенов, 2012]). П. Н. Милюков обращал внимание, что патриотическое сознание российских крестьян ограничивалось масштабом их губернии: «В войне 1914 г. “вековая тишина” получила распространенную формулу в выражении: “Мы – калуцкие”, то есть до Калуги Вильгельм не дойдет. В этом смысле оправдалось заявление Коковцова иностранному корреспонденту, что за сто верст от больших городов замолкает всякая политическая борьба» [1991. С. 157–162]. Заявление Милюкова подтверждалось наблюдениями и русских боевых офицеров. А. И. Деникин в «Очерках русской смуты» приводил характерную позицию крестьян: «Мы Тамбовские, до нас немец не дойдет…». О том же самом писал и А. А. Брусилов: «Солдат не только не знал, что такое Германия и тем более Австрия, но он понятия не имел о своей матушке России. Он знал свой уезд и, пожалуй, губернию, знал, что такое Петербург и Москва, и на этом заканчивалось его знакомство со своим отечеством. Откуда же было тут взяться патриотизму, сознательной любви к великой родине» [Брусилов, 2001. С. 70].
Местечковый патриотизм российских крестьян резко контрастировал не только с ожиданиями столичных властей, но и временным всплеском энтузиазма горожан. И хотя крестьяне активно подключились к делу помощи солдатам и раненым, отправляли на фронт пожертвования, теплые вещи, когда речь заходила о военных реквизициях, они занимали достаточно категорические позиции. Так, 55-летний крестьянин Псковской губернии Аким Лукин возмущался гужевой повинностью: «Почему мою лошадь выбрали, – неужели наш государь прогорел, что последнюю лошадь отбирает?» 8. «Если вашему государю нужно воевать, то пусть дает своих лошадей», – вторил ему ровесник из Холмской губернии Иван Вазио 9. В итоге у крестьян и призванных из их среды запасных созревали коллаборационистские настроения. Офицер в письме из действующей армии в Москву в декабре 1914 г. приводил типичные разговоры солдат-призывников: «А если Вильгельм возьмет Польшу – так что же из этого следует. А то, что через несколько лет нашей Польши не узнаешь. Смотри, как “под Вильгельмом” живут. Разве где-нибудь у нас в Польше или России найдешь таких крестьян. Посмотри, они ведь как помещики, так у них все устроено. Поэтому, по всей совокупности, не беда, если немец все завоюет: тогда войны больше не будет (не с кем будет), а житься будет не хуже, а скорее – лучше» 10.
Постепенно как в городской, так и крестьянской среде развивалась мысль, что война была начата как противовес крестьянскому и рабочему движению. Так, сын сельского священника, проживавший в Петрограде, писал своему отцу в Тверскую губернию в ноябре 1914 г.: «Говорят некоторые, что войну вызвали русский и немецкий императоры, чтобы сделать кровопус- кание рабочему классу ради подавления охватившего всю Россию революционного июльского движения» 11. Массовое сознание устойчиво связывало революционное движение и начало войны, и в том случае, когда она не считалась спланированной акцией, направленной на подавление революционной активности, обыватели заявляли, что Вильгельм воспользовался внутренними беспорядками в России для нападения. Однако и в этом случае российские власти обвинялись как минимум в преступном попустительстве: «Банда разбойников затеяла войну, другая банда разбойников не сумела вовремя, благодаря своему ротозейству, предотвратить ее и заставили миллионы других, ни в чем не повинных, мирных людей, расхлебывать их ротозейство, расплачиваться за их разбойничьи души» 12.
Если слухи городской среды объясняли причины войны контрреволюционными мероприятиями царской власти, то в деревне возникла близкая версия, актуальная для крестьянства. Говорили, что война затеяна для того, чтобы перебить крестьян и тем самым решить проблему нехватки земли: «Царь наш Николай II дурак, идиот, продал Россию Вильгельму и войну затеял с целью уничтожить людей, чтобы не наделять их землей» 13. В декабре 1914 г. собравшиеся за покупками в томской артельной лавке крестьяне рассуждали: «Вы думаете, эта война идет из-за каких-нибудь наших интересов? Нет, ничего подобного – просто-напросто наш государь Николай и германский Вильгельм как раньше пили шампанское вино, так и теперь пьют его вместе; войну же ведут из-за того, чтобы уничтожить миллионы порядочных людей» 14.
Правда, существовали и иные слухи, связывавшие войну с земельным вопросом: многие наивно верили, что отобранные у немцев и австрийцев земли отдадут крестьянам. По этому поводу случались недоразумения между различными начальствующими лицами и демобилизованными по причине ранений солдатами-крестьянами. Горожане, участвовавшие в благотворительной работе общественных организаций в деле помощи раненым воинам, в письмах делились подобными историями: «Подходит, например, с ампутированной рукой солдатик и спрашивает: “это вы записываете, кому сколько земли дать?” Я раньше не поняла, а оказывается, что он думает, что от немцев отобрали землю и дают нашим крестьянам. Оказался он крестьянином Смоленской губернии, только что вышел на хутор, обзавелся и все его мысли около земли… А земельные мечты даже страшны немного, – подходящая почва для будущих недоразумений» 15.
В качестве следствия подобных слухов росло недовольство в адрес правительства, в среде городских и сельских слоев населения появлялись мысли о предательстве власти. Однако даже среди патриотически настроенных подданных Российской империи, жаждавших победоносного окончания войны, происходило падение авторитета центральной власти. Наиболее ярко это было выражено в шпиономании, носившей как бытовой (поиск доказательств немецкого заговора в повседневной жизни), так и политический (обвинения в предательстве представителей власти) характер. Распространение в массовой психологии бытовой шпиономании приводило к тому, что обыватели придумывали и распускали слухи о действовавших по соседству с ними тайных шпионских организациях. Так, в июне 1915 г. С. Л. Об-леухова, член Главной палаты Русского народного союза Михаила Архангела (РНСМА), не определившись с тем, куда донести на организованное по соседству с ней «гнездо» немецких шпионов, жаловалась лидеру РНСМА В. М. Пуришкевичу: «Сейчас сижу и думаю: кому бы сказать о сборищах немцев, которые происходят рядом с нами в квартире д-ра Шредера, русского подданного? Глубоко убеждена, что тут гнездо шпионов. Сходятся, запираются и говорят по-немецки до глубокой ночи. Ездят какие-то барышни, военные и пр.» 16.
Подозревали русских немцев, не сменивших фамилий, и в прямом вредительстве. В частности, появлялись слухи о врачах-вредителях. В июле 1915 г. крестьянин Московской губернии Андрей Гончаров написал донос на женщину-врача Нехорошев-ской земской лечебницы А. Г. Гамбургер, которая якобы вела пропаганду против всего русского, хвалила немецкую армию и ру- гала русскую. Пристав Связавский и урядник Орлов провели негласное расследование, опросили больных и сослуживцев Гамбургер в больнице, крестьян близлежащих сел, которые охарактеризовали Гамбургер с положительной стороны, не подтвердив ходившие о ней слухи 17.
Некоторые обыватели вызванную войной дезорганизацию общей инфраструктуры империи отнесли на счет тайного вредительства немцев. Некий Назимов 16 августа 1914 г. писал из Варшавы своему куму в Царское село: «Ровно сутки прошло для переезда с одного вокзала на другой. Вопиющее отношение Варшавско-Венской ж. д. Полная неприспособленность и халатность, если не умышленная преступность. Вся администрация этой дороги с немецкими фамилиями. Начальник дороги – Паукер, начальник службы движения – Вейс. Всю эту ночь не спал из-за этих непорядков…» 18. Бытовая германофобия питалась постоянными статьями на тему зверств немецкой армии. Официальная «Летопись войны» публиковала истории солдат, бежавших из германского плена, о пытках, которым они подвергались при допросах. Газета «Петроградский листок» завела на своих страницах специальную рубрику «Германские зверства в…», регулярно публикуя в ней сообщения о том, как издевались немецкие солдаты над пленными, ранеными и мирными жителями оккупированных территорий на разных участках фронтов. Одной из популярных тем стало разоблачение немецких сестер милосердия, которые после боя якобы ходили и добивали раненых противника. По инициативе Государственной думы, поддержанной Государственным советом, а затем и Советом министров, была создана специальная Чрезвычайная следственная комиссия, занимавшаяся расследованием всех фактов нарушения немцами международных норм ведения войны.
Раздутая не без помощи военных властей шпиономания в результате обернулась против самой власти: народная молва отставку генерала П. К. Ренненкампфа в ноябре 1914 г. связала с его немецкими корнями, а расстрел в марте 1915 г. по обвинению в шпионаже С. Н. Мясоедова, увольнение в июне 1915 г. военного министра В. А. Сухомли- нова убеждали широкие слои населения в наличии внутренних «темных сил», главным представителем которых считалась императрица Александра Федоровна. Даже среди патриотически настроенных подданных уже осенью 1914 г. начали появляться опасения, что супруга императора склоняет его к заключению сепаратного мира. Московский священник О. М. Никольский писал в Петроград 9 октября 1914 г.: «У нас носятся упорные слухи, что наши хотят заключить с Германией сепаратный мир, что в высших сферах сильно немецкое течение. Избави нас Бог от такой глупости» 19. Другой современник более детально освещал подготовку заключения сепаратного мира в письме из Петрограда в Тверскую губернию в ноябре 1914 г.: «Николай II, правда, ездил в Ставку, чтобы начать переговоры о мире, но был остановлен Николаем Николаевичем ввиду несвоевременности такого шага. Давление его августейшей (она немка – Александра Федоровна) продолжается и он потащился вторично. В Петрограде по ее тайной инициативе были разбросаны летучки (она все скорбит о своем фатерланде), призывающие народ заявить требование о скорейшем мире» 20.
Обвинялась народной молвой императрица и в том, что передавала германскому штабу секретные военные сведения. Кроме супруги императора «доставалось» и вдовствующей императрице-матери. Малограмотные слои населения не видели разницы между датчанами и немцами, а потому и ее считали немкой, приписывая организацию диверсий на военных заводах и складах: «Вдовствующая государыня и супруга государя императора – обе немки и всеми силами способствуют поражению России в войне с Германией, и по их указанию в Петрограде, Японии и еще где-то в один день были взорваны склады оружия и снарядов, предназначенных к отправлению русским войскам на театр военных действий, а потому и следует заключить, что измену в России делают лица, выше всех стоящие, а обвиняют для вида евреев и Мясоедова», – сообщал в мае 1915 г. крестьянин Томской губернии Илья Фельдман 21. Следует отметить, что если городская молва злым гением императора считала его супругу, то в крестьянской среде нередко обвинения горожан по отношению Александры Федоровны переадресовывались Марии Федоровне. Так, горожане утверждали, что между Царским Селом и Берлином по распоряжению императрицы установлена прямая телефонная связь, по которой Александра Федоровна сообщала немцам секретные сведения; в других вариантах слухов сообщения передавались по телеграфу 22. При этом крестьянин Вятской губернии Ефим Опарин после сельского схода делился с односельчанами иной версией: «Наша война с Германией проиграна, так как мать государя Мария Федоровна провела в Германию телефон и передавала немцам все, что делалось у нас» 23 .
Недоверие к членам императорской семьи приводило к дискредитации организованного ими дела помощи раненым воинам. В пространстве слухов его связывали либо с предательством, либо с сексуальными извращениями, а то и с тем и другим вместе. Так, в первых числах декабря 1914 г. в деревне В. Загорье ратник Затравкин, придя в избу крестьянки Дорониной, у которой собрались девушки для вязания и пряжи теплых вещей для нужд армии, произнес: «Напрасно вы девушки работаете для армии, бросьте вашу работу, все равно вещи ваши не дойдут ни до солдата, ни до бедного офицерика, и злая царица матерь государя императрица Мария Федоровна все ваши вещи прокутит и прогуляет со своими любовниками и развратниками» 24.
В городской среде, более компетентной относительно жизни царского двора, чем крестьянской, ходили слухи о похождениях Вырубовой, Александры Федоровны, обязательном участником которых выступал Григорий Распутин. Чаще всего они облекались в форму политической порнографии. Петроградский студент в декабре 1916 г. упоминал засилье политической порнографии в письме своему московскому товарищу: «По Петрограду ходит очень много стишков, карикатур и т. п. изображений нашей милой действительности, в большинстве случаев порнографического характера» 25. По рукам ходили многочисленные подретуширован- ные фотографии, изображавшие Распутина с любовницами, среди которых «узнавали» и государыню, художники рисовали открытки, демонстрировавшие Распутина и Александру обнаженными в ванне и т. д. Отношениям старца с императорской четой были посвящены даже романы. Одним из первых «исторических романов» на эту тему был текст бывшего иеромонаха Илиодора (С. Труфанов) «Святой черт. Записки о Распутине», ходивший по рукам столичных жителей в 1916 г.
Примечательно, что в деревенской среде слухи о связи Распутина с царицей не были распространены. В 1 474 делах по обвинению подданных Российской империи (преимущественно крестьян) в оскорблении императора и членов его семьи согласно ст. 103 Уголовного уложения за 1914–1916 гг. имя Распутина ни разу не упоминалось, при том что фигурировали Ренненкампф, Мясоедов, вел. кн. Николай Николаевич, великие княгини, члены Государственной думы и пр. Вероятно, это отчасти было связано с механизмом рождения слухов в деревне: чтением столичных газет вслух и их последующей интерпретацией, – отсутствие упоминаний о Распутине в газетах исключало его имя из сельского пространства слухов, а доходившие до крестьян рассказы о старце через странствующих нищих и демобилизованных солдат не вызывали возмущения, по-види-мому, в связи с типичностью для народного фольклора сюжета об отношениях царицы и простого мужика.
В январе 1917 г. Александра Федоровна собственноручно спровоцировала очередную волну обвинений ее в германофильстве и, следовательно, предательстве: по инициативе императрицы был разработан приказ об улучшении содержания немецких военнопленных. Профессор Ю. Кулаковский писал из Киева проф. А. Соболевскому в Петроград: «Не отрицаю “фабрики слухов”, но беда, что слухи в громадном множестве подтверждаются. А что до вмешательства Царицы в дела о пленных немцах, то приказ Министерства прямо ссылался на императрицу. Но те лица, которые редактировали приказ, не могли же не знать, какие слухи о царице ходят – и уже давно» 26.
Падение авторитета власти, надежд на скорое завершение войны способствовало развитию иррационального мышления обывателей. В условиях недоверия к подцензурным источникам информации обыватели обращались за ответами к народным традиционным формам – гаданиям. Особой популярностью пользовались гадания, основанные на магии чисел: обыватели искали закономерности, позволявшие определить дату окончания войны. Так была выведена формула определения даты мира на основе франко-прусской войны 1870–1871 гг.: если сложить оба числа, то сумма первых двух чисел полученного результата будет означать день, а сумма оставшихся – месяц окончания войны, т. е. 10 мая. Действительно, 10 мая 1871 г. был подписан мирный договор между Францией и Пруссией. Будучи уверенными в том, что современная война не продлится дольше текущего года, петроградцы решили, что Германия подпишет капитуляцию 11 ноября 1915 г. (1914 + 1915 = 3 829; 3 + 8 = 11; 2 + 9 = 11) (Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 29 июня). Как известно, Германия действительно подписала перемирие 11 ноября, фактически означавшее окончание войны, но только в 1918 г. Таким образом, жаждавшие скорейшего мира предсказатели ошиблись ровно на три года.
В погоне за счастьем и удачей, если не помогали духи, карты и лотерейные билеты с предсказаниями, люди пытались в силу своих возможностей и в меру известных суеверий самостоятельно влиять на судьбу. Так, например, россияне бросились скупать «брутовские рубли» – бумажные деньги, подписанные кассиром Государственного банка Брутом, который повесился в 1914 г., по слухам, проигравшись в карты. Согласно суеверию, некоторые вещи, оставшиеся от самоубийц, приносят счастье, вот суеверные обыватели в условиях распространения мистицизма и поддались массовой психологии.
Устраивались спиритические сеансы, во время которых вызванные духи делали предсказания. Убийство Распутина в декабре 1916 г. породило новую волну слухов: якобы дух старца продолжает оказывать влияние на политику, вселяясь в тех или иных членов правительства. В частности, поговаривали о том, что дух Распутина все- лился в министра внутренних дел А. Д. Протопопова 27.
Увлеченность спиритуализмом добавляла в политическую лексику соответствующие термины. Так, правительство, состоявшее из распутинских протеже, называлось министерством духов или попросту «спиритическим». Новый министр просвещения, доктор медицины Н. К. Кульчицкий, в перлюстрации назывался «спиритом»: «Новый министр спирит; в свое время привлекался к суду по делу 193 (революционная пропаганда), но затем покаялся; должен был подвергнуться суду по делу Мережковского, но по милости министра Кассо был спасен переводом на должность попечителя Петроградского учебного округа, изгнание его с которой было первым делом Игнатьева» 28. По этому поводу иронизировала петербурженка в январе 1917 г.: «Быть может, теперешнее объединенное спиритическое министерство удивит мир своими решениями, продиктованными посторонними силами, но и не думаю. Ведь подобное стремится к подобному, следовательно, и духи должны быть равного качества» 29.
Официальные власти пытались бороться с мистическими настроениями в обществе путем введения запрета на публикацию предсказаний о войне, запрета деятельности шарманщиков, продававших соответствующие билеты, хиромантов и пр. От имени товарища министра внутренних дел всем губернаторам 19 февраля 1915 г. было отправлено циркулярное письмо: «Прошу воспретить бродячим шарманщикам продажу публике билетов с предсказаниями о войне и мире» 30. Некоторые губернаторы пошли еще дальше, и тут же издали запрет на всякую публикацию статей, оттисков и пр. с предсказаниями о войне 31.
По-видимому, косвенно связанной с увлеченностью горожанами мистикой была и проблема динамики психических расстройств в период Первой мировой войны. Психиатры-современники отмечали резкий всплеск душевных заболеваний летом 1914 г. Причем особенно ярко эта динамика проявилась у женщин, которые традиционно считаются более психически уравновешенными, чем мужчины. Так, если до июля 1914 г. поступление женщин в психиатрические лечебницы столицы постепенно снижалось, то с началом войны, наоборот, начинается его рост (правда, так и не достигнув пика 1914 г., который пришелся на май – традиционный период обострений у душевнобольных). В результате, по сравнению с июлем в декабре 1914 г. в больницах для душевнобольных оказалось на 28 % женщин больше (подсчитано по: [Ежемесячник статистического отделения..., 1914. № 1–12]). Для обоих полов Москвы характерна примерно та же ситуация, только с опозданием на месяц, резким скачком поступлений в сентябре (рекордная отметка для всего года в 204 чел.) и последующим постепенным снижением. Показательна также кривая смертности среди душевнобольных за годы войны. Так, среднемесячная смертность душевнобольных в Петербурге в 1913 г. составляла 69,9 чел., в 1914 г. она поднялась до 72,4 чел., а в 1915 г. составила 81,6 чел. в месяц (подсчитано по: [Ежемесячник статистического отделения..., 1913– 1915]).
В 1914 г. В. М. Бехтерев опубликовал статью «Психические заболевания и война», где связывал эти два фактора, считая причиной психических расстройств как травмы головы у солдат на фронте, так и волнения, напряжение психических сил людей, особенно в прифронтовой зоне. Среди проявлений истерико-неврастенических психозов Бехтерев называл галлюцинации и кошмары по ночам. Чтобы не превращать фронт и полевые госпитали в сплошной сумасшедший дом и не снижать тем самым боевой дух здоровых воинов, В. М. Бехтерев еще в сентябре 1914 г. предложил начать срочную эвакуацию душевнобольных с фронта и направлять их на лечение в городские больницы (Московский листок. 1914. 20 сент.). Психиатр профессор П. Я. Розенбах также анализировал душевные расстройства периода мировой войны. Со ссылкой на него «Биржевые ведомости» поместили описание заболевания рядового Ф. Д. Кирволидзе, который каждый день с 9 до 12 часов утра впадал в летаргический сон (Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 13 янв.).
Эмоциональный спад или даже элементы депрессии, в частности, можно было наблюдать по такому явлению, как рост рассеян- ности столичных жителей, проявившийся в потере личных вещей. Один из журналистов в июле 1915 г. писал: «Богиня Мнемозина окончательно покинула петроградцев» (Биржевые ведомости. 1915. 20 июля). В стол находок управления городских железных дорог (трамваев) с 1 января по 16 июля 1915 г. поступили 1 403 забытые вещи. Женщины оказались забывчивее мужчин и в зимнее время «любили» терять в вагонах трамвая муфты, сумочки, кольца, браслеты, иногда умудрялись оставить верхнюю юбку или корсет. В оправдание рассеянных петроградок 1915 г. можно упомянуть, что накануне войны кто-то умудрился «забыть» в трамвае сверток с новорожденным младенцем, о котором также сообщили в стол находок, но, по-видимому, в той истории все же были иные мотивы. Довольно часто петроградцы теряли галоши (причем по одной), трости, зонты.
Однако более печальным следствием массовой депрессии стали участившиеся несчастные случаи с летальным исходом. Так, например, за 1913 г. от несчастных случаев погибло 1 098 петроградцев. В 1914 г. их количество хоть и сократилось до 1 066, но в декабре показало рекордную отметку в 152 погибших человека (против 71 в декабре 1913 г.). Однако уже в 1915 г. от несчастных случаев погибло 3 343 чел., т. е. увеличилось на 214 %. Пик пришелся на октябрь, когда в городе умерло 445 чел. (против 90 в октябре 1913 г.) (подсчитано по: [Ежемесячник статистического отделения..., 1913– 1915]). Для Москвы была характерна та же ситуация, и против 796 погибших от несчастных случаев в 1913 г. в 1915 г. оказалось уже 2 538 жертв (подсчитано по: [Ежемесячный статистический бюллетень по г. Москве, 1913–1915]). В 1916 г. количество смертельных исходов после несчастных случаев незначительно снижается примерно на 17 %, вероятно, по причине психологической адаптации горожан к постоянным неутешительным сведениям, поступающим с фронта, хотя по-прежнему продолжает превышать подобную смертность довоенного периода.
К следствию массового психического кризиса следует также отнести суицидальную активность населения. Правда, здесь скорее можно говорить об обратном – о снижении числа самоубийств с началом войны. Отчасти это связано с увеличением смертности душевнобольных. Так, например, вслед за начавшимся в апреле 1914 г. снижением количества самоубийств среди петроградцев в мае начала расти смертность от психических расстройств, а ее падению с октября 1914 г. соответствовал рост самоубийств, начавшийся на месяц раньше (подсчитано по: [Ежемесячник статистического отделения..., 1913–1915]). Таким образом, обратно пропорциональная кривая колебаний самоубийств и смертности душевнобольных позволяет предположить, что в обоих случаях мы имеем дело с почти одной и той же группой населения, страдающей психической неуравновешенностью.
К концу 1916 г. городской обыватель, отягощенный противоречивой информацией, потерял точку опоры и с тревогой ожидал надвигающиеся перемены. Ощущения распада захватили нацию. Александр Вертинский вспоминал о последней зиме 1916 г.: «Трон шатался… Поддерживать его было некому. По стране ходили чудовищные слухи о похождениях Распутина, об измене генералов, занимавших командные должности, о гибели безоружных, полуголых солдат, о поставках гнилого товара армии, о взятках интендантов» [1990. С. 91].
Накануне празднования Нового года усиливались предчувствия революции среди различных слоев населения. О надвигавшейся катастрофе писал в своем дневнике и московский мещанин Н. П. Окунев [1990. С. 11], и посетившая Петроград молодая княгиня Екатерина Сайн-Витгенштейн [1986. С. 77]. Подобные настроения усугублялись распространявшимися рассказами о готовившихся в верхах заговорах, покушениях на царствующие особы.
Один из принципиально важных феноменов февральских дней 1917 г. – слухи о критическом недостатке хлеба в Петрограде. Более того, в некоторых «хвостах» говорили о том, что правительство вообще собирается на несколько дней прекратить продажу хлеба для того, чтобы сосчитать оставшиеся в городе запасы [Ломоносов, 1994. С. 221]. Официальные власти ничего не могли поделать со стихийным ростом слухов относительно недостатка хлеба. Им оставалось лишь наблюдать и фиксировать на бумаге развитие панических настроений. Тем не менее министр внутренних дел А. Д. Протопопов, телеграфируя в Ставку дворцовому коменданту, сумел сформули- ровать, по-видимому, истинные причины перебоев с хлебом: «Внезапно распространившиеся в Петрограде слухи о предстоящем, якобы, ограничении суточного отпуска выпекаемого хлеба взрослым по фунту, малолетним в половинном размере вызвали усиленную закупку публикой хлеба, очевидно в запас, почему части населения хлеба не хватило. На этой почве 23 февраля вспыхнула в столице забастовка, сопровождающаяся уличными беспорядками» 32.
Сами хлебопеки наблюдали явление, когда какой-то человек, купив в одной лавке хлеб, тут же становился в очередь к другой. «Хвосты» в данной ситуации неимоверно быстро росли, возбуждая беспокойство у другой части публики.
Несмотря на постоянное требование хлеба, толпы, в действительности, не ощущали в нем такую уж огромную потребность и, ворвавшись в хлебную лавку, часто разбрасывали его по улице, а в самом магазине били стекла 33.
В февральские дни городская молва разносила вести об ужасающих актах насилия как со стороны верных старой власти структур, так и поднявшего революционное знамя народа. Полицию обвиняли в том, что она расстреливает мирные демонстрации из расставленных на крышах домов пулеметов. Появилась версия, что царское правительство сознательно спровоцировало февральские беспорядки, чтобы, жестоко подавив выступление народа, перейти к открытой реакции [Половцов, 1928]. Также полагали, основываясь на слухах о «царскосельских предателях», что все дело в стремлении заключить с Германией сепаратный мир [Бубликов, 1918. С. 16]. Чины полиции не отрицали факта уличной пулеметной стрельбы, однако вину переносили на провокаторов-«революционеров» [Глобачев, 2002. С. 67]. Так или иначе, но слухи о пулеметах привели к случаям массовых незаконных обысков на частных квартирах, устраивавшихся представителями новоиспеченной власти. Чаще всего под видом такого обыска скрывался обычный вооруженный грабеж.
Череду новых панических слухов вызвало появление на дверях отдельных квартир петроградцев в начале марта белых крестов. Кое-кто пытался систематизировать кресты по их виду и социальной принадлежности жильцов «крещеных» квартир. В «Петроградском листке» отмечалось, что перед квартирами офицеров было по два креста; секретарь петроградской городской милиции З. Кельсон писал о распространенных в то время слухах, что белыми крестами помечают квартиры евреев, собираясь им устроить Варфоломеевскую ночь [1925. С. 168]. В период революции антисемитизм, отождествлявшийся с царской политикой и идеологией приспешников самодержавия – черносотенных организаций, популярен не был, хотя в апреле в Москве появлялись воззвания к еврейскому погрому (Русские ведомости. 1917. 9 апр.).
Вероятно, апогеем развития обывательских страхов перед расплатой за совершенную революцию стала массовая истерия, охватившая жителей обеих столиц, относительно слухов о «черных авто». Они якобы появлялись по ночам в разных частях города и расстреливали обывателей и милиционеров. Все эти слухи были несостоятельными хотя бы потому, что в условиях войны была проведена ревизия всего моторного транспорта, а затем и реквизиция его у частных лиц для передачи в пользование государственных и общественных организаций, обеспечивавших нужды военного времени. Неучтенных, бесхозных моторов в стране, а тем более в столице, не было. Тем не менее революционизация массового сознания характеризовалась блокированием рациональных пластов мышления, поэтому страшилка о «черных авто» была подхвачена представителями разных слоев. Первое известие о них датируется 2 марта: «Появился в Петербурге некий “черный автомобиль”, мчавшийся, как говорили, из конца в конец столицы и стрелявший в прохожих чуть ли не из пулемета» [Суханов, 1991. С. 178]. «Русские ведомости» 9 марта сообщили о предпринятых в Петрограде «таинственными моторами» ночных разбойничьих набегах, сообщалось также, что удалось напасть на след некоторой организации (Русские ведомости. 1917. 9 марта). После этого тема «черных авто» стала самой популярной в столичной прессе, а 16 марта их «обнаружили» и в Москве. Журналисты даже смогли определить район, в котором появление «черных авто» носило почти регулярный характер – Трубная площадь, Сретенка и Садово-Спасская (Московский листок. 1917.
17, 18 марта). Но петроградские милиционеры в расследовании продвинулись дальше: они смогли заполучить список номеров этих авто, и вскоре был арестован гласный городской думы Д. А. Казицин, проезжавший в машине из списка [Кельсон, 1925. С. 169]. Когда личность депутата была установлена, «подозреваемого» тут же отпустили.
Так как никакой контрреволюционной организации выявлено не было, сознание горожан переквалифицировало владельцев авто-«монархистов» в банду сбежавших уголовников. Кроме того, не без доли облегчения обывателями было замечено, что наибольшую опасность автомобили представляли для милиционеров, поэтому очень скоро появился слух об охоте на городскую милицию. «Черные авто» из информационного поля слухов перешли в семиотическое поле литературных и изобразительных образов. В журналах стали печататься фельетоны, карикатуры на пугающихся любого автомобиля милиционеров (20 век. 1917. № 14. С. 14). День 12 апреля стал рекордным по числу зафиксированных происшествий с «черными авто». Разбор каждого случая появления «черного авто» в отдельности показывает, как переросшие в массовый психоз индивидуальные страхи обывателей заставляли опознавать в качестве черных автомобилей практически любой движущийся ночью объект [Аксенов, 2005].
Характерен случай, произошедший поздно ночью 12 апреля, когда четыре милиционера Спасской части на автомобиле выехали для производства обыска по уголовному делу. Когда автомобиль проезжал по Невскому проспекту, он издал хлопок, то ли от лопнувшей шины, то ли из выхлопной трубы. На звук тут же отреагировали постовые милиционеры и открыли беспорядочную стрельбу вслед своим уезжающим коллегам, в результате которой была убита лошадь проезжавшего мимо извозчика. Когда автомобиль остановился, на находящихся в нем милиционеров набросилась толпа, намереваясь совершить самосуд. Постовые милиционеры смогли отбить своих товарищей от разъяренного народа, но на обыск в тот день милиционеры так и не попали, проведя остаток ночи в разбирательстве по данному происшествию. Другой случай произошел за Московской заставой по Можайскому шоссе. Стоящий на посту милиционер в темноте принял за черный автомобиль… броневик с солдатами, который не остановился на его свистки. Милиционер открыл стрельбу по броневику, солдаты, которые его не заметили, но услышали удары пуль о броню, ответили беглым ружейным огнем. Никто, к счастью, не пострадал (Петроградский листок. 1917. 13 апр. С. 5).
Таким образом, массовое сознание российских обывателей трансформировалось под воздействием социально-психологической атмосферы, способствовавшей ирра-ционализации мышления. Рабочие беспорядки весны-лета 1914 г., вырабатывавшие революционную психологию, проявились и в патриотических митингах периода мобилизации в форме немецких погромов. Тем не менее, в силу психологического кризиса, выразившегося, в частности, в росте числа душевнобольных и суицидальной активности, патриотическая пропаганда не смогла выработать универсальных лозунгов, которые консолидировали бы российское общество. В результате на протяжении всей Первой мировой войны значительную роль в формировании общественных представлений играли слухи, выливавшиеся порой в психические фобии, проявившиеся, в частности, в эпопее с «черными авто» в двух российских столицах.
Список литературы Социально-психологическая атмосфера российского общества в 1914-1917 годах: к природе слухов и фобий
- Аксенов В. Б. Война и власть в массовом сознании крестьян в 1914-1917 гг.: архетипы, слухи, интерпретации // Российская история. 2012. № 4. С. 137-145.
- Аксенов В. Б. Слухи и страхи петроградцев и москвичей в 1917 г. // Социальная история: Ежегодник. 2004. М., 2005. С. 163-200.
- Асташов А. Б. Пропаганда на русском фронте в годы Первой мировой войны. М.: Спецкнига, 2012. 400 с.
- Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 11 июля; 1915. 13 янв., 29 июня, 20 июля.
- Брусилов А. А. Мои воспоминания. М.: Эксмо, 2001. 256 с.
- Бубликов А. А. Русская революция (ее начало, арест Царя, перспективы): впечатления и мысли очевидца и участника. Нью-Йорк: Б/и, 1918. 160 с.
- Булдаков В. П. Хаос и этнос: Этнические конфликты в России, 1917-1918 гг. Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М.: Новый Хронограф, 2011. 1093 с.
- Вертинский А. Дорогой длинною… Стихи и песни. Рассказы, зарисовки, размышления. Письма. М.: Правда, 1990. 576 с.
- Глобачев К. И. Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника петроградского охранного отделения // Вопр. истории. 2002. № 9. С. 60-84.
- Граве Б. К истории классовой борьбы в России в годы империалистической войны. Июль 1914 - февраль 1917. Пролетариат и буржуазия. М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1926. 414 с.
- 20 век. Пг., 1917. № 14.
- Ежемесячник статистического отделения Петроградской городской управы. Пг., 1913-1915.
- Ежемесячник статистического отделения Санкт-Петербургской городской управы. СПб., 1914. № 1-12.
- Ежемесячный статистический бюллетень по г. Москве. М., 1913-1915.
- Кельсон З. Милиция февральской революции. Воспоминания// Былое. 1925. № 1 (29).
- Кирьянов Ю. И. Были ли антивоенные стачки в России в 1914 году? // Вопр. истории. 1994. № 2. С. 43-52.
- Кирьянов Ю. И. Социально-политический протест рабочих России в годы Первой мировой войны (июль 1914 г. - февраль 1917 г.). М.: Изд-во Ин-та российской истории РАН, 2005. 218 с.
- Колоницкий Б. И. «Трагическая эротика». Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М.: Новое лит. обозрение, 2010. 644 с.
- Лейберов И. П. На штурм самодержавия: Петроградский пролетариат в годы Первой мировой войны и Февральской революции (июль 1914 - март 1917 г.). М.: Мысль, 1979. 311 с.
- Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1969. Т. 25. 646 с.; Т. 26. 590 с.
- Ломоносов Ю. В. Воспоминания о мартовской революции 1917 года. М.: РГГУ, 1994. 262 с.
- Меницкий Ив. Революционное движение военных годов (1914-1917). М.: Изд-во Коммунистической академии, 1925. Т. 1: Первый год войны (Москва). 444 с.
- Милюков П. Н. Как принята была война в России? // Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991. С. 157-162.
- Мировая война в цифрах. М.; Л.: Военгиз, 1934. 128 с. Московский листок. 1914. 9 авг., 20 сент.; 1917. 17, 18 марта.
- Окунев Н. П. Дневник москвича (1917- 1924). Париж: YMCA-Press, 1990. 600 с.
- Петербургский листок. СПб., 1914. 19, 23 июля.
- Петроградский листок. Пг., 1917. 13 апр.
- Половцов П. А. Дни затмения. (Записки главнокомандующего войсками Петроградского военного округа генерала П. А. Половцова в 1917 году). Париж: Возрождение, 1928. 206 с.
- Русские ведомости. 1917. 9 марта, 9 апр.
- Сайн-Витгенштейн Е. Н. Дневник. Париж: YMCA-Press, 1986. 302 с.
- Суханов Н. Н. Записки о революции: В 3 т. М.: Политиздат, 1991. Т. 1. 382 с.
- Тютюкин С. В. Война, мир, революция. Идейная борьба в рабочем движении России 1914-1917 гг. М.: Мысль, 1972. 304 с.
- Флеер М. Г Рабочее движение в России в годы империалистической войны. Л.: Прибой, 1926. 123 с.