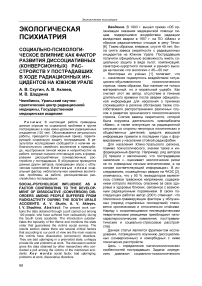Социально-психологическое влияние как фактор развития диссоциативных (конверсионных) расстройств у пострадавших в ходе радиационных инцидентов на Южном Урале
Автор: Скутин А.В., Аклеев А.В., Шадрина И.В.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Экологическая психиатрия
Статья в выпуске: 2 (40), 2006 года.
Бесплатный доступ
В настоящей работе приведены данные опросов по социальной проблеме в группе пострадавших в ходе южно-уральских радиационных инцидентов (120 чел). Обосновывается актуальность работы, приводится официальный приказ, гарантирующий социальную защиту пострадавшим. В результатах исследования сообщается о наличии неблагополучного семейного воспитания в преморбиде, неустроенной личной жизни и неприятностях на работе, которые сыграли отягчающую роль в формировании диссоциативных (конверсионных) расстройств у пострадавших. В обсуждении приводятся данные других авторов, проводивших опрос с облученным населением.
Социальный фактор, неблагополучное семейное воспитание, проблемы на работе, диссоциативные расстройства у пострадавших
Короткий адрес: https://sciup.org/14295129
IDR: 14295129
Текст научной статьи Социально-психологическое влияние как фактор развития диссоциативных (конверсионных) расстройств у пострадавших в ходе радиационных инцидентов на Южном Урале
Введение . В 1993 г. вышел приказ «Об организации оказания медицинской помощи лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» [6]. Таким образом, впервые, спустя 40 лет, была снята завеса секретности с радиационных инцидентов на Южном Урале. Пострадавшие получили официальную возможность иметь социальную защиту в виде льгот, компенсаций, санаторно-курортного лечения и раннего выхода на пенсию «по экологии» с 45—50 лет.
Некоторые из учёных [1] полагают, что «…население подверглось воздействию ситуационно-обусловленного психологического стресса, таким образом, был нанесен не только материальный, но и моральный ущерб». Как считает этот же автор, отсутствие в течение длительного времени после аварии официальной информации для населения о причинах сложившейся в регионе обстановке также способствовало распространению различных слухов и развитию хронического психологического стресса. Снятие завесы секретности, которой была окружена деятельность химкомбината «Маяк», а также спекуляция на радиационной ситуации со стороны некоторых политических и общественных деятелей, средств массовой информации привели в последние годы к формированию у населения стойкой радиофобии.
Для населения Южно-Уральского региона, помимо психологического, значим также и информационный фактор. Например, ряд авторов [3] пришли к заключению, что пострадавшее население «…оценивает экологические риски не по очевидным личным впечатлениям, а на основе соответствующей информации». В исследованиях, посвящённых аварии на ЧАЭС [2], отмечалось, что у 90 % ликвидаторов выявлялось стойкое тревожное напряжение, содержанием которого являлось опасение за свое здоровье и здоровье близких, связанное с возможным радиационным поражением. В своих последующих работах автор (2001) отмечает, что психогенно-травмирующие факторы у облученных (период отдалённых последствий) становятся хроническими и относительно стойкими. Наряду с сохраняющимися неспецифическими невротическими реакциями преобладают пато-характерологические изменения, посттравматические и социально-стрессовые расстройства.
Данная статья является фрагментом исследования, посвящённого изучению диссоциативных (конверсионных) и коморбидных с ними психических расстройств.
Цель – определение патопсихологических особенностей пострадавших. Задача: определить диапазон социально-психологического влияния на формирование диссоциативных расстройств у облученных.
Материал и методы . С целью изучения диссоциативных нарушений у пострадавших в зоне ВУРСа и в пойме р. Течи было обследовано (2004, 2005) 120 пациентов, подпадающих под критерии диссоциативных (конверсионных) расстройств. Исследования проходили на базе Уральского научно-практического Центра радиационной медицины МЗ РФ и в отделении реабилитации ОКБ № 1. Были использованы клинический, клинико-анамнестический, патопсихологический методы.
В соответствии с МКБ-10 при отборе пациентов в основную группу исключались лица с грубыми физическими и неврологическими нарушениями, которые могли обусловливать диссоциативные симптомы. Критерием отбора явилось наличие четкой временной связи со стрессовыми событиями или проблемами, а также нарушенными взаимоотношениями (даже если они отрицались больными).
Результаты и обсуждение . Проводился опрос пострадавших, им было предложено ответить на вопрос: «Чего вы опасаетесь, боитесь, тревожитесь (три ваших самых сильных страха)». Результаты опроса показали, что 91,7 % респондентов испытывают страх за свое здоровье, здоровье семьи и ближайших родственников, что созвучно с концепцией диагностики межличностных и межгрупповых отношений («социометрия») Дж. Морено. Так, 20,8 % опрошенных боятся терроризма и войны; 13,3 % респондентов связывают свои страхи с пожарами, животными и будущим; у 10,8 % выявлены страхи высоты, смерти и темноты; 5,8 % респондентов боятся одиночества, утопления, змей, грызунов; у 3,3 % респондентов основными страхами являются угроза потерять работу, заболеть от укуса клещей, они также боятся летать на самолётах, а также имеет место страх повторного инцидента на ПО «Маяк». Кроме того, встречаются страхи из разряда казуистических – фобия леса и котят (0,8 %).
Важными, на наш взгляд, являются особенности семейного воспитания в преморбиде. В группе органических диссоциативных расстройств (F06.5) гармоничный тип воспитания составил 20,8 %, жесткий – 15 %, гиперопека – 12,5 %, гипоопека – 2,7 %. Группа смешанных диссоциативных расстройств (F44.7) выявила воспитание по гармоничному типу (10 % случаев), жесткому типу (8,3 %), скрытую гипоопеку (3,3 %), гиперопеку по типу «кумир семьи» (2,5 %). В группе смешанных диссоциативных расстройств (F44.7), ассоциированных с расстройствами адаптации, кратковременной (F43.20) и пролонгированной (F43.21) депрессивными реакциями, гармоничное воспитание выявлено в 3,4 % (скрытая гиперопека – в
2,5 %, потворствующая – в 0,9 %). Группа истерического расстройства личности (F60.4) и ис-тероипохондрического развития (F60.8) обнаружила гармоничный тип воспитания – 4,2 %, жесткий тип – 3,3 %, гиперопека по типу «кумир семьи» – 4,2 %, гипоопека скрытая – 1,7 %, явная безнадзорность – 1,7 %.
Таким образом, в 40 % случаев у обследованных выявлен гармоничный тип воспитания. Можно предположить, что в большинстве случаев неблагоприятные типы воспитания способствовали формированию и утяжелению симптоматики диссоциативных расстройств.
Без упоминания о том, сколько в семье было детей и каким по счёту был наш пациент, данные, на наш взгляд, будут неполными. К примеру, из многодетной семьи (5 и более детей) происходили 52,5 % больных; из средней по численности семьи (от 2 до 4) – 45 %, единственный ребёнок – 2,5 %. Кардинально поменялась ситуация в семьях самих больных. Имеют многодетные семьи (5 и более детей) – 7 %, средние семьи (2—4 ребёнка) – 71,7 %, единственный ребёнок – 18,3 %. Считаем, что такие различия не случайны (нужно дать ребёнку должное, чаще всего платное образование; жилищные и материальные вопросы и др.).
Необходимо также учесть психопатологическую наследственность. Среди ближайших родственников основной группы респондентов лиц, страдающих шизофренией, насчитывается 5 %, эпилепсией – 1,7 %, олигофренией – 0,9 %, алкоголизмом – 10 %, атеросклеротическим психозом – 0,9 %, совершили самоубийства – 13,4 %. Таким образом, отягощённая психопатологическая наследственность выявлена в 32 % случаев.
В исследовании было обращено внимание также на возрастные показатели: в группу лиц от 35 до 44 лет входило 14,2 %, от 45 до 70 лет – 85,8 %. Такое деление по возрасту было предпринято в связи с тем, что с 45 лет многие из числа респондентов вышли на пенсию «по экологии». Продолжили работать – 43,3 %, из них работающих пенсионеров – 4,2 %.
По социальному статусу обследуемые из числа работающих распределились следующим образом: служащие – 25,8 %, предприниматели – 1,7 %, рабочие – 15,9 %, безработные – 5,8 %, пенсионеры – 50,8 %, из них 28,3 % пенсионеров вышли на пенсию «по экологии» (средний возраст выхода на пенсию «по экологии» 48±2,5 года). Среди работающих 8,3 % респондентов жизнь в коллективе расценивают как неблагоприятную и индифферентную, при этом в качестве причин называются частые ссоры и конфликты, возможность попасть под сокращение.
Обследование семейного положения дало следующие результаты: вдовые – 14,2 %, в браке – 67,5 %, разведено – 11,7 %, разведены, но живут вместе – 2,5 %, гражданский брак – 2,5 %, холостые (не состояли в браке) – 1,7 %. Из них 35 % респондентов оценивают свою семейную жизнь как неблагоприятную и индифферентную. Среди факторов, способствующих этому, называют частые семейные конфликты, алкоголизацию одного из супругов. Уровень образования обследованных колеблется в широком диапазоне: высшее – 12,5 %, незаконченное высшее – 0,8 %,среднеспециальное – 49,2 %, среднее – 12,5 %, до 9 классов – 25 %. Длительность проживания на загрязненной радиацией территории составила от 1 года до 62 лет.
Данные проведенного исследования имеют некоторое сходство с результатами других ученых. Так, исследователи из Челябинского гос-университета [4, 5] пришли к заключению, что социально-психологическая обстановка на территории Южного Урала, в зоне последствий радиоактивного загрязнения, весьма напряженная, причем в большей мере, чем в «чистых» районах. Испытывают чувства недовольства и тревоги половина опрошенных; раздраженности и агрессивности – 12 %. Большинство пострадавших не удовлетворены льготами и компенсациями (78 %). В городской и сельской местности на Восточно-Уральском радиоактивном следе и вдоль р. Теча население беспокоят, в основном, низкий уровень жизни, состояние здоровья, боязнь за будущее детей, загрязнение окружающей среды. Более того, исследование выявило, что в последние годы у большинства жителей загрязненной и части жителей «чистой» территории сформировалась стойкая «радиофобия». Несмотря на то что отмечается тенденция сокращения противников строительства Южно-Уральской АЭС (с 76 % в 1991 г. до 53 % в 1995 г.), две трети респондентов считают, что деятельность ПО «Маяк» оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду, почти столько же уверены в возможности, а каждый пятый – даже в неизбежности радиационных аварий. Население по-прежнему недостаточно информировано о текущей радиационной обстановке, степени загрязненности территории проживания, ходе реабилитационных работ и снижении риска радиационных аварий, катастроф, отсутствует информация о льготах и социальных компенсациях.
Как следует из работ вышеперечисленных авторов, роль информационного фактора достаточна значима. На наш взгляд, нельзя недооценивать и другие факторы, влияющие на развитие психических расстройств у пострадавшего населения Южно-Уральского региона.
Наши предыдущие исследования выявили достаточные адаптационные возможности у пострадавших с диссоциативными (конверсионными) расстройствами. «Переселенцев» из общего числа респондентов было 26,7 %, но значение эвакуации для них потеряло свою былую актуальность – «всё забылось». Можно предположить, что фактор переселения прямо пропорционален процессам психологической адаптации, это соответствует выражению «время лечит».
Таким образом, один из выводов исследования говорит в пользу того, что у пострадавшего переселённого населения с диссоциативными (конверсионными) расстройствами не выявлено посттравматическое стрессовое расстройство. В заключение необходимо отметить, что неблагополучное семейное воспитание в преморби-де, отягощённая наследственность, недостаточные льготы и компенсации, низкий жизненный уровень, переселение и разрыв родственных отношений, неустроенная личная жизнь и неприятности на работе играют отягчающую роль в формировании диссоциативных (конверсионных) расстройств у пострадавших во время радиационной аварии.