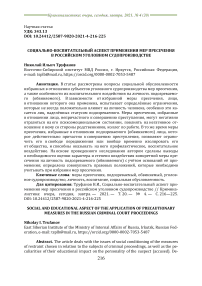Социально-воспитательный аспект применения мер пресечения в российском уголовном судопроизводстве
Автор: Труфанов Николай Ильич
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 4 (20), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы социальной обусловленности избранных в отношении субъектов уголовного судопроизводства мер пресечения, а также особенности их воспитательного воздействия на личность подозреваемого (обвиняемого). В зависимости от избранной меры пресечения, лицо, в отношении которого она применена, испытывает определённые ограничения, которые не всегда положительно влияют на личность человека, особенно это касается лиц, наделённых статусом подозреваемого. Меры пресечения, избранные в отношении лица, непричастного к совершению преступления, могут негативно отразиться на его психоэмоциональном состоянии, повлиять на негативное отношение к нему со стороны родственников, коллег по работе. В то же время меры пресечения, избранные в отношении подозреваемого (обвиняемого) лица, которое действительно причастно к совершению преступления, позволяют ограничить его в свободе передвижения или вообще временно изолировать его от общества, и способны оказывать на него профилактическое, воспитательное воздействие. На основе проведенного исследования автором сделаны выводы о необходимости оценки характера и степени воздействия конкретной меры пресечения на личность подозреваемого (обвиняемого) с учётом оснований её применения; определена совокупность правовых положений, которые необходимо учитывать при избрании мер пресечения.
Меры пресечения, подозреваемый, обвиняемый, уголовное судопроизводство, личность, воспитание, социальная обусловленность
Короткий адрес: https://sciup.org/143178237
IDR: 143178237 | УДК: 343.13 | DOI: 10.24412/2587-9820-2021-4-216-225
Текст научной статьи Социально-воспитательный аспект применения мер пресечения в российском уголовном судопроизводстве
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: ,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: ,
В демократическом государстве, где законы выражают волю народа, уголовно-процессуальное законодательство является основой процедуры расследования и рассмотрения уголовных дел. Существование демократического государства невозможно без принуждения, опирающегося на власть и отражающего интересы государственной власти [1]. Нормы уголовно-процессуального законодательства гарантируют реализацию основных прав и законных интересов каждого гражданина, вовлечённого в уголовно-процессуальные отношения. Однако конечные цели органов, осуществляющих уголовнопроцессуальную деятельность, и лиц, нарушивших нормы уголовного законодательства, зачастую диаметрально противоположны. Лицо, совершившее преступление, не всегда заинтересовано во всестороннем и объективном расследовании обстоятельств уголовного дела. Такие лица в большинстве случаев занимают по- зицию отрицания своей причастности к совершению преступления либо стараются выставить себя в качестве потерпевшей стороны, выдвигают версии о наличии смягчающих вину обстоятельств и т. п.
Меры пресечения связаны с определенным ограничением прав личности и направлены на обеспечение интересов общества и государства, которые соответствуют законным интересам всех его граждан, они являются необходимым средством защиты личности, общества и государства в целом [2, с. 13]. Нормы действующего Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (далее по тексту — УПК РФ) в главе 13 содержат перечень мер пресечения, которые могут применяться от имени государства к лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления. Институт мер пресечения предназначен для достижения задач уголовного судопроизводства и эффективного обеспечения правосудия по уголовным делам. Правовые нормы, регулирующие применение мер пресечения, практически отражают компромисс между интересами уголовного процесса и интересами прав человека. Предписывая ограничение прав человека, эти нормы точно определяют максимально допустимую законом степень пресечения, устанавливают порядок применения, а также предоставляют возможность их законного обжалования.
Анализ судебной практики относительно влияния мер пресечения на ограничение прав человека в уголовном судопроизводстве показал, что такое ограничение прав человека допустимо до тех пор, пока это необходимо для обеспечения быстрого и прогрессивного расследования уголовного дела и судебного разбирательства. Однако интенсивность этого ограничения в рамках уголовного судопроизводства должна быть по возможности минимизирована.
Так, например, по каждому поступившему ходатайству следователя, дознавателя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1—4 статьи 159, статьями 159.1— 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту — УК РФ) [3], являющегося индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, следует проверять, приведены ли в постановлении о возбуждении ходатайства и содержатся ли в приложенных к постановлению материалах конкретные сведения, подтверждающие вывод о том, что инкриминируемое ему преступление совершено не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо не в связи с осуществлением им полномочий по управлению этой организацией или не в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности 1. При отсутствии указанных сведений такое ходатайство удовлетворению не подлежит. Если лицо подозревается или обвиняется в совершении не только преступления, указанного в части 1.1 статьи 108 УПК РФ, но и другого преступления, предусмотренного иной статьей Особенной части УК РФ и не исключающего применение заключения под стражу, суд вправе при наличии к тому оснований избрать эту меру пресечения [4].
Таким образом, принимая решение о применении меры пресечения, лицо, осуществляющее расследование уголовного дела, должно уравновесить интересы уголовного процесса и основные права человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации и иными правовыми актами. Защита интересов участников уголовного процесса не допускает необоснованного или непропорционального ограничения человека в его правах, даже если этот человек подозревается или обвиняется в совершении преступления.
Рассматривая вопрос о социальной обусловленности мер пресечения, необходимо отметить, что все виды мер пресечения имеют общую задачу — способствовать успешному выполнению задач уголовного судопроизводства. В качестве непосредственной задачи необходимости применения мер пресечения выделяется обеспечение надлежащего поведения участников уголовного судопроизводства в лице подозреваемого, обвиняемого, с целью предупреждения их уклонения от органов предварительного расследования и суда, от отбывания наказания, для реализации возможной выдачи лица, для устранения реальных или возможных препятствий к установлению истины, а также обеспечения общественной безопасности при исключении возможности нахождения этих лиц в социуме.
При решении вопроса об избрании либо продлении меры пресечения необходимо руководствоваться наличием конкретных оснований, предусмотренных статьёй 97 УПК РФ, а также, в соответствии со статьёй 99 УПК РФ, должны учитываться тяжесть преступления, сведения о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий обязан в каждом случае обсуждать возможность применения в отношении лица иной, более мягкой, меры пресечения вне зависимости от наличия ходатайства об этом сторон, а также от стадии производства по уголовному делу. Например, по- становлением Чунского районного суда в отношении подсудимой Б. ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена в порядке статьи 255 УПК РФ на 3 месяца. В суд апелляционной инстанции Иркутского областного суда поступили апелляционные жалобы подсудимой и защитника, на основе которых было установлено, что суд первой инстанции не привел доводов о невозможности применения иных, более мягких мер пресечения, в том числе домашнего ареста, и не дал должной оценки, как того требуют положения статьи 99 УПК РФ, сведениям о личности подсудимой в их совокупности. Суд апелляционной инстанции принял к сведению, что подсудимая Б. ранее не была судима, имеет устойчивые социальные связи, характеризуется положительно, имеет постоянное место работы и постоянное место жительства. На основании данных выводов судом было принято решение в виде апелляционного постановления о том, что правомерное поведение обвиняемой может быть обеспечено в условиях её содержания под домашним арестом с установлением предусмотренных законом ограниче-ний1. Таким образом, дознавателю, следователю и суду при принятии решения об избрании меры пресече- ния либо о продлении срока её действия необходимо в каждом случае обсуждать возможность применения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления любой категории иной, более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения вне зависимости от наличия ходатайства об этом сторон, а также от стадии производства по уголовному делу [4].
В целом применение любой меры пресечения в той или иной степени ограничивает права человека, поэтому, решая вопрос об ограничении прав личности, необходимо также решить, перевешивает ли благо общества важность защиты прав и интересов человека [5, с. 52]. Избирая конкретный вид мер пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого лица, необходимо учитывать их эффективность применения, понимая при этом, что меры пресечения не являются мерами наказания за совершенное преступление.
Если применение наказания действительно влечёт определённые изменения в поведении личности, то спорным остаётся вопрос о степени воспитательного воздействия на личность подозреваемого (обвиняемого) избранной в отношении его меры пресечения.
М. Ю. Рагинский, рассматривая меры уголовно-процессуального пресечения, полагает, что они оказывают исправительное и перевоспитательное воздействие на личность [6, с. 71].
В. М. Савицкий, в свою очередь, считает, что исправлять и перевоспитывать можно только лицо, виновное в совершении преступления, а таковым оно может быть признано, только по решению суда [7, с. 93].
Аналогичная мысль выражена в мнении В. А. Михайлова, который указывает на то, что «меры перевоспитания лиц, совершивших преступление, по общему правилу, осуществляются после вступления приговора в законную силу, в процессе исполнения наказания, а в стадии предварительного следствия и при судебном расследовании уголовного дела, процесс воспитания только начинается» [8, с. 27].
Безусловно, в действующей системе мер пресечения самой строгой мерой является заключение под стражу. Ограничение права на свободу при выборе меры пресечения в виде заключения под стражу означает прекращение нормальной деятельности и исключение члена общества из сферы его обычного общения, интересов и деятельности в общественной жизни. Надо ли говорить, каким потрясением оборачивается заключение для человека, не чувствующего за собой никакой вины. Лучше всего ощущения такого человека передал писатель и драматург А. И. Солженицын: «сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие?» [9]. Даже после осуждения «культа личности» в СССР страх в обществе перед незаконным заключением под стражу и незаконными методами следствия не исчез.
Еще в самом начале перестройки академик А. Д. Сахаров говорил о том, что в нашей жизни подозреваемый, равно как и обвиняемый, находятся в чрезвычайно тяжелых условиях давления следствия [10]. И в настоящее время не исключены случаи избрания конкретных видов мер пресечения в качестве средств психологического воздействия на личность, например, с целью принудить его к даче показаний [11, с. 37—37].
Придерживаясь мнения авторов, признающих воспитательное воздействие мер пресечения на личность, можно сказать, что исключительными возможностями воспитательного воздействия обладает вся уголовно-процессуальная деятельность, а меры пресечения только обеспечивают успешное осуществление этой деятельности. Если мера пресечения применяется к лицу, невиновному в совершении преступления или ошибочно привлеченному к уголовной ответственности, то вопрос о воспитательном воздействии этой меры вообще не возникает, т. к. данное лицо не нуждается в подобном воспитании. Такое лицо претерпевает ограничения в своих правах, а также серьезные нравственные переживания, которые заключаются в невозможности продолжать заботу о своей семье, осуществлять активную общественную жизнь. Кроме того, в обществе в отношении данной личности могут распространяться сведения, порочащие его честь и достоинство.
Исследуя вопрос о содержании воспитательного воздействия мер пресечения на личность, необходимо обратить внимание на взаимосвязь понятий «воспитание», «перевоспитание» и «исправление». По своей сути, их невозможно разрывать в практическом осуществлении. Воспитание — это процесс. Перевоспитание и исправление — результат, достигаемый в процессе воспитания. Воспитание проводится с целью достижения конкретных результатов, при этом можно говорить о достижении или недостижении результата, отрицание же возможности наступления результата в принципе равнозначно отрицанию самого процесса воспитания. Стоит также отметить, что результат достигается не всегда сознательно, поскольку его наступление не всегда заранее спрогнозировано конкретной целью. Если наличествует процесс воспитания, то не исключается и его результат — исправление и перевоспитание.
Автор далек от мысли о том, что при применении мер уголовнопроцессуального пресечения к конкретному лицу, всегда и во всех случаях происходит его исправление и перевоспитание. Общеизвестно, что такой результат не всегда достигается и после длительного воспитания в специальных исправительных учреждениях пенитенциарной системы [12, с. 542], а уж тем более в домашних условиях (например, в случае избрания в отношении лица меры пресечения в виде домашнего ареста). Однако, в зависимости от психологических особенностей личности, глубины и стойкости антиобщественной установки, вполне возможно, что подобный результат наметится уже до вынесения судом приговора под воздействием мер, принимаемых в процессе расследования и разрешения уголовного дела, и, в частности, мер пресечения. Хотя меры пресечения и не являются мерами уголовного наказания, но психологически лицо, совершившее преступление, может воспринимать их применение как следствие его преступных действий. Поэтому своевременное раскрытие преступления и применение в необходимых случаях мер пресечения оказывает самое непосредственное влияние на сознание лица, совершившего преступление, и особенно на формирование и реализацию у него установки на соблюдение норм действующего права в будущем.
Необходимо также сказать, что, велико и общепревентивное значение мер уголовно-процессуального пресечения. Действительно необходимое и результативное их применение, не может не оказывать влияния на сознание лиц, склонных к совершению преступлений, каждый раз, давая им возможность убедиться в том, что ни одно преступление не может оставаться нераскрытым, что государственные органы обладают достаточным арсеналом средств, использование которых позволит изобличить и наказать каждого, совершившего преступное деяние. Кроме этого любое мероприятие по предупреждению преступлений только тогда может достигнуть своей цели, когда оно проводится при строгом соблюдении принципа законности. В большей мере это относится к применению такой меры пресечения, как заключение под стражу. Необоснованное, незаконное решение о применении данной меры пресечения не только не оказывает никакого воспитательного воздействия на личность, но может привести и к противоположному результату. Даже последующее освобождение лица, незаконно подвергнутого временному ограничению свободы, неспособно восполнить тот урон, который причиняется незаконным заключением под стражу, как самому этому лицу, так и общему делу воспитания граждан в духе неуклонного соблюдения предписаний закона. Такие факты, не только, не создают уверенности, что за преступление будет наказано лишь виновное лицо, но и оказывают дезорганизующее влияние на общественное мнение, которое должно содействовать пре- дупреждению и искоренению преступных проявлений. Также необходимо упомянуть о том, что любое незаконное ограничение свободы означает полный отказ от правовых гарантий, что, в свою очередь, является серьезным нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав и основных свобод [13].
Говоря о влиянии мер пресечения на личность, заслуживает внимание высказывание известного итальянского криминолога Энрико Ферри, — «безмолвная и неумолимая реакция природы против всякого преступающего законы деяния, а также печальные последствия, которые ждут того, кто совершает эти деяния, в действительности, являются самым могущественным карательным аппаратом, который учит человека, особенно находящегося на низших стадиях умственного развития, например, дикаря или ребенка, не повторять некоторых вредных для него деяний. И эта «дисциплина естественных последствий», как называют её педагоги, является несомненно, хорошим воспитательным методом» [14].
В целом анализ социального и воспитательного воздействия на личность существующей системы мер уголовно-процессуального пресечения позволяет говорить о том, что их применение является необходимым средством регулирования поведения лиц, в отношении которых осуществляется уголовное судопроизводство в правовом государстве, оказывает профилактическое и охранительное воздействие на общество в целом и воспитательно-пресекательное на личность подозреваемого (обвиняемого) в частности.
Действующее уголовнопроцессуальное законодательство
Российской Федерации не допускает необоснованного ограничения прав человека при применении мер уголовно-процессуального пресечения. Таким образом, при избрании определённой меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) лица, необходимо соблюдать следующие положения:
-
1. Применение мер пресечения допустимо только при возникновении правовой ситуации, которую законодатель указал как основание для применения данной меры, следовательно, последняя должна быть объективно обоснована.
-
2. Ограничение прав подозреваемого (обвиняемого) путём избрания конкретной меры пресечения, должно быть разумным и соразмерным, но в то же время достаточным для обеспечения определенной процедуры эффективного расследования материалов уголовного дела.
-
3. Для каждой меры пресечения существует определенный порядок применения.
-
4. Применение мер пресечения связано с ограничением прав и основных свобод человека
-
5. Продолжительность срока применения конкретной меры пресечения определяется продолжительностью срока, в течение которого основания для её применения продолжают существовать.
-
6. Вид избранной меры пресечения должен быть соразмерен антиобщественному поведению человека.
в течение определенного периода времени.
Любая мера пресечения, ограничивающая свободу человека, должна рассматриваться в свете обеспечения предполагаемой невиновности человека, с одной стороны, и, с другой — справедливого рассмотрения дела о важности свободы человека. Следовательно, только сомнение в том, что лицо может совершить преступление, не может перевешивать предполагаемую невиновность до тех пор, пока необходимость и неизбежность даже временного ограничения прав подозреваемого (обвиняемого) не будет доказана неопровержимыми и достаточными доказательствами по уголовному делу.
Список литературы Социально-воспитательный аспект применения мер пресечения в российском уголовном судопроизводстве
- Kegley J. A. K. Reassessing Compulsion and Persuation in Democracy via a New Framework // Persuasion and Compulsion in Democracy. 2013, Lexington Books, Plymouth, UK. 1—18.
- Грибунов О. П. Обоснованность подозрения как гарантия законности ограничения прав и свобод граждан при применении мер принуждения в уголовном судопроизводстве / О. П. Грибунов, В. Г. Степанова // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2018. — № 5. — С. 13—18.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 // СЗ РФ. —1996. — № 25. — Ст. 2954.
- О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 11 июня 2020 г. № 7 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 2020. — № 8.
- Jelena Groma. Criminal procedural compulsory measures: the topical issues and legal regulation enhancement prospects. Summary of Doctoral Thesis for obtaining the degree of a Doctor of Law. — Riga, 2015. — 78 p.
- Рагинский М. Ю. Институт общественного поручительства как мера предупреждения правонарушений и перевоспитания правонарушителей // Советское государство и право. — 1959. — № 10. — С. 70—81.
- Савицкий В. М. Презумпция невиновности: Что означает? Кому нужна? Как применяется? — М.: Норма, 1997. — 126 с.
- Михайлов В. А. Меры пресечения в Российском уголовном процессе. — М.: Право и закон, 1996. — 304 с.
- Арест как мера устрашения // Независимая газета. — 22 мая 1998 г. — № 90.
- Зачем нужна прокуратура, которая не защищает от произвола // Новые известия. — 11 мая 2001 г. — № 77.
- Петрухин И. Л. Психическая неприкосновенность обвиняемого // Проблемы совершенствования законодательства об охране прав граждан в сфере борьбы с преступностью. — Ярославль: ЯГУ, 1984. — С. 37—38.
- Ишигеев В. С. Проблемы первоначального этапа расследования насильственных пенитенциарных преступлений / В. С. Ишигеев, О. П. Грибунов // Известия Байкальского государственного университета. — 2017. — Т. 27. — № 4. — С. 541—545.
- Roagna I. Protecting the right to respect for provate and family life under the European Convention on Human Rights. Council of Europe. — Strasbourg, 2012.
- Ферри Э. Уголовная социология. — М.: Инфа-М, 2005. — 58 с.
- Павлов А. В. Заочный арест обвиняемого, объявленного в межгосударственный розыск / А. В. Павлов, Е. Н. Чемерилова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2020. — № 3(94). — С. 157—168.