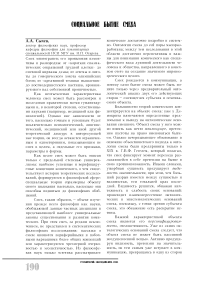Социальное бытие смеха
Автор: Сычев А.А.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (5), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720363
IDR: 14720363
Текст статьи Социальное бытие смеха
Как неотъемлемая характеристика человека смех может быть рассмотрен и исследован практически всеми гуманитарными и, в некоторой степени, естественными науками (например, медициной или физиологией). Однако вне зависимости от того, насколько точным и успешным будет исключительно психологический, лингвистический, медицинский или иной другой теоретический дискурс в интересующей нас теории, он всегда останется ограниченным и односторонним, показывающим не смех в целом, а отдельные его признаки, параметры и формы.
Как целое смех может быть описан только с предельной степенью универсализма: наиболее успешные и верифицируемые концепции комического, о чем свидетельствует история теоретических исследований, формируются в философской сфере: специальные теории соразмерны объекту своего изыскания настолько, насколько они способны подняться до философских обобщений.
Смех, таким образом, —объект изучения прежде всего философии как науки, обобщающей данные частных дисциплин и представляющей наиболее универсальные законы существования и развития комического. При этом смех, за редким исключением, не представлен в систематических философских исследованиях: пассажи о смехе являются периферийными и побочными вариациями более общих концепций или характеризуются чрезмерной очерко-востью и эссеистичностью. Из философских наук только эстетика рассматривает комическое достаточно подробно и системно. Онтология смеха до сей поры малораз-работана; между тем исследования в этой области достаточно перспективны и важны для понимания комического как специфического вида духовной деятельности человека и общества, направленного в конечном счете на создание значимого мировоззренческого целого.
Смех рождается в коммуникации, а потому само бытие смеха может быть понято только через предварительный онтологический анализ двух его действующих сторон —смеющегося субъекта и осмеиваемого объекта.
Большинство теорий комического концентрируется на объекте смеха: уже у Демокрита намечаются определенные предпосылки к выходу на онтологические основания смешного. Объект смеха у него можно понять как нечто м ним осущ ее, претензию пустоты на право именоваться бытием. Однако исчерпывающее обоснование и описание объективистского подхода к онтологии смеха были предприняты только в XIX в. Г.В.Ф. Гегелем, который полагал, что смех фиксирует момент перехода разлагающейся в себе претензии на бытие в свою противоположность. Иными словами, ущербная сущность продуцирует видимост ь значительности; при этом, чем больший разрыв имеется между сущностью и видимостью, тем тотальней крах последней. Видимость рушится, обнажая ничтожность и слабость своих оснований: происходит взаимопересечение онтологических и эпистемологических оснований смеха, поскольку, с точки зрения субъекта смеха, это обнажение есть раскрытие истины.
Важной характеристикой объекта смеха является его персонифицирован-ность, очеловеченность. Уже из самих онтологических оснований смеха следует, что объект смеха не может быть пассивной неодушевленной вещью. Активно продуцируя видимость, претензии на значительность, он тем самым уже вступает в коммуникацию, превращаясь в одну из сторон диалога, в своеобразный второй субъект. Бытие объекта смеха есть, таким образом, бытие человеческое или общественное — неодушевленная вещь или абстракция может стать объектом смеха только в той мере, в какой носит в себе следы создателя или признаки сходства с человеком и вовлечена в жизнь общества. Так, смешными могут быть неудачные изделия человека, объявившего себя мастером, но не сами по себе, а только в связи с завышенными претензиями изготовителя; те же изделия, сделанные ребенком, уже не вызывают смеха. Животные кажутся тем смешнее, чем больше они походят на людей: самый сильный смех обычно провоцирует поведение обезьян, старательно копирующих человека.
Таким образом, объектом смеха может быть только человек однако и в этом случае онтологические границы смеха будут слишком широки. Важно отметить, что смех концентрируется только на духовной реальности, а не на телесном, физическом бытии человека. Казалось бы, люди, часто смеются над проявлениями физической ущербности: тучностью, уродствами, неуклюжестью и т. д. Особенно отчетливо это обнаруживалось, например, в архаичной комедии, где все персонажи имели ярко выраженные физические недостатки. Однако достаточно сравнить тучность шекспировских Г амлета («Он тучен и одышлив», — говорит Гертруда) и Фальстафа («Ты видишь, у меня больше плоти, чем у других, значит, я должен быть еще слабее»), чтобы понять, что смешна не тучность сама по себе, а духовная ущербность, просвечивающая через физическую данность1. Уловленное карикатуристом физическое сходство человека с животным —будет смешным лишь при определенных условиях: карикатурное изображение в виде осла умного человека вызовет недоумение, дурака —смех.
Проблемой физического в смехе подробно занимался Анри Бергсон, который предложил свою оригинальную трактовку смеха над внешними недостатками. Разделив уродства на вызывающие смех и далекие от комического, Бергсон делает вывод: «Смешным может быть всякое уродство, которое изобразит правильно сложенный человек»2. Иными словами, человек со «смешным уродством» производит впечатление человека, который просто не умеет держать себя, на что и реагирует общество посредством смеха, как бы пытаясь исправить недостаток. Смех вызывается не физической данностью человека, а его моральной ущербностью или социальной косностью; а физическое может лишь проявить духовное, выступая своеобразным ключом к пониманию, триггером, пусковым механизмом, но не причиной смеха.
Добавим, что, поскольку в смехе, скрыто или явно, но всегда присутствует критическое начало, направленность смеха только на материальную форму будет более чем бессмысленной: действенным может быть лишь изменение духовных начал, определяющих эту форму. Лев Шестов резонно замечает по поводу соотношения материального и идеального: «Самый страшный враг всего одушевленного не косная материя, самый страшный и беспощадный враг —это идеи. С идеями, и только с идеями надо бороться тому, кто хочет преодолеть ложь мира»3.
Говоря о духовном бытии объекта смеха, нельзя не упомянуть и о бытии трансцендентном. Не вдаваясь в споры о наличии или статусе этой формы бытия и отталкиваясь только от существования ее понятия, коснемся только ответа на вопрос о возможности смеха над трансцендентным, прежде всего над бытием Бога. Отрицательный ответ для человека верящего очевиден. Смех над Божественным для религиозного сознания — кощунство, более того, нежелателен смех вообще: «горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете».
Истоки невозможности смеха над трансцендентным лежат, как представляется, в герменевтических основах смеха. Смех —прежде всего понимание, а Божественное a priori выше всякого ограниченного человеческого понимания. Даже если и предположить совершенный и всеохватный выход в трансцендентное, то подобное противоестественное «слияние горизонтов» не сможет породить необходимого для смеха избытка понимания. Смех над Божественным возможен только в том случае, когда смеющийся считает, что вера в трансцендентное есть не более чем человеческое заблуждение. Следовательно, мы смеемся только над человеческими идеями, и не более того: объект смеха —всегда и во всем человек.
Объект смеха, таким образом, можно описать как персонифицированное, очеловеченное явление, имеющее видимость значительности, но обладающее ущербной духовной сущностью. Обнажение, «раздевание» этой видимости (посредством интеллектуального усилия, через физическую данность и т. д.) и служит причиной смеха.
В сущности, большинство классических исследований ограничивается описанием онтологических основ объекта смеха и гносеологических основ субъекта. Тем не менее, свою онтологическую специфику имеет и субъект смеха. Анализ этой специфики, несомненно, поможет несколько расширить понимание смеха в целом.
Начиная с XIX в., в ряде исследований, посвященных комическому, выделяются два типа смешного, являющиеся разновидностями смеха по линии «природа — культура»: «смех тела» и «смех ума». Основания для подобного выделения существовали и ранее, что отражено, например, в различных словах, применявшихся для обозначения этих типов смеха в некоторых языках4. К первому типу, как правило, относится смех, вызываемый субъективными физиологическими причинами: улыбка ребенка, «жизнерадостный смех», смех от щекотания или опьянения. Сюда же отчасти примыкает смех, связанный с телесной открытостью смеющегося — сексуальной, агрессивной, скатологической. Второй тип предполагает умение рационально оценить ситуацию. Такой смех более рафинирован, окультурен и, как правило, редуцирован до сатиры, иронии, сарказма.
Разделение смеха на типы обусловлено их онтологической укорененностью: первый опирается на физическую, телесную реальность, второй —на субъективное бытие сознания. В историческом и социокультурном аспектах такое разделение приводит к ряду важных выводов. Различия между смехом Рабле и Франса, Гоголя и Маяковского, Хармса и Довлатова огромны, и рассматривать миры этих прак- тиков комического в одном теоретическом ключе невозможно.
Однако прежде чем отметить плодотворность разделения «смеха тела» и «смеха ума», необходимо указать и на недопустимость их резкого отграничения друг от друга. К настоящему времени уже ясна принципиальная целостность смеха во всех его проявлениях. Соответственно кардинальное, насильственное разведение полюсов смеха представляется неправомерным: как целостность человека обусловливается единством соматического и социального, и игнорирование одного пагубно для другого, так и единство смеха определяется взаимодействием «смеха ума» и «смеха тела».
Можно сказать, что две маски смеха различаются, как Белый и Рыжий клоуны в классических цирковых постановках. Оба важны: если отсутствует один из них —теряется основа комического. «Первый, — пишет Ф. Феллини, — это само изящество, грация, гармония, ум, трезвость мысли, которые морализаторы выдают за качества идеальные, непревзойденные, безусловные, божественные. Рыжий, которого можно сравнить с ребенком, пачкающим под себя, бунтует против подобного совершенства; он напивается, катается по земле, и, следовательно, подстрекает к вечному протесту»5. Важнейший источник смеха здесь —контраст. Рыжий кажется смешнее на фоне Белого, но и глупая педантичность Белого смешит сильнее, если Рыжий находится рядом. Смех над Рыжим — интеллектуальный смех нормы над жизненным хаосом; смех над Белым — смех самой жизни над педантизмом и общественными стереотипами.
В качестве крайнего примера рассмотрим наиболее явный вид физиологического смеха —смех, связанный со щекоткой. Щекотка представляется специфическим физическим стимулом, вызывающим однозначную реакцию. Однако в порядке эксперимента, можно попробовать пощекотать незнакомого человека —его реакцию вполне реально почувствовать на себе, и она будет определенно не смеховая. Можно проделать подобный эксперимент и с собой —«само-щекотание» также не вызовет смеха. Следовательно, даже такой, ка- залось бы примитивный, смех требует присутствия другого; этот другой должен быть близким или хорошо знакомым человеком; он должен оцениваться как равный по социальному положению; важны также комфортные условия и соответствующее настроение: физиологический смех предполагает нечто из социальной сферы.
Обратимся к противоположному примеру —распространенному во всех культурах фольклорному жанру перешучивания, «перебранки», когда молодые люди и девушки перебрасываются насмешками и непристойностями. Оторванные от ситуации тексты «перебранки» можно рационально интерпретировать как «подтрунивание над извечными изъянами человеческой натуры» или даже «бичевание коренных пороков и язв общества» 6. В этом случае, однако, не будет учтена одна из основных причин смеха — физиологическая, где насмешка есть только повод для осознанного или неосознанного приглашения на сексуальное общение, которым в архаичных обществах «перебранка», как правило, и заканчивалась. Те же шутки в другой ситуации, например в печатном виде, могут не вызвать даже улыбки.
Примеры, приведенные выше, показывают, что смех не может быть только «смехом ума» или «смехом тела»: непреодолимой границы между данными типами не существует, общественное и природное в смехе тесно связываются и соподчиняются, и любое исследование, посвященное смеху, должно исходить из принципиальной целостности и единства этого феномена.
Разделение «смеха ума» и «смеха тела», конечно, необходимо, но должно осуществляться не в терминах «или-или», а в терминах «больше-меньше»: смех может быть лишь преимущественно телесным или интеллектуальным. Таким образом, дифференциация смеха как формы социо-соматического бытия должна проводиться в рамках целостного его рассмотрения. Для того чтобы пояснить этот тезис, приведем конкретные примеры, связанные с исследованиями юмора. Так, в отечественной науке можно выделить две традиции в интерпретации смеха. Первая просто исключает «смех тела» из исследований как неинформативный и социально немаркиро- ванный. Вторая, напротив, рациональную сатиру считает предельно редуцированным «несмеющимся смехом», утратившим всякие связи со смеховой цельностью. Первая традиция, ярким представителем которой является Д.П. Николаев, видит в смехе Гоголя только рациональную сатиру, интерпретируя даже ритуальный смех в качестве «бичевания социальных поро-ков»7. Представитель второй традиции М.М. Бахтин видит в Гоголе продолжателя Рабле, соответственно интерпретируя даже явную сатиру как карнавальныIй, телесный смех8. Между тем смех Гоголя целостен: он включает в себя и ярко выраженный карнавальны 1 й «смех тела» (особенно в ранних произведениях) и чистейший сатирический «смех ума» («Мертвые души», «Ревизор»), а в некоторых случаях —и то и другое, иногда в одном высказывании.
Очевидно, исследование смеха, должно учитывать как существование различных тенденций в комическом (телесных и рациональны х), так и возможность их пересечений, совпадений, взаимовлияний, составляющую в конечном счете целостный портрет смеха. Это позволит, с одной стороны, выявить специфику различных онтологических оснований смеха, а с другой — показать генетическое единство смеха как социокультурного феномена.
Бытие смехового субъекта и, в большей степени, смехового объекта проясняют онтологические основания феномена смеха. Однако бытие смеха как такового невозможно свести только к бытию субъекта или объекта: оно проявляется только в сфере их взаимодействия. Онтологическая основа смеха —прежде всего общение, совместная коммуникация людей, социальных групп, культур и т. д. Можно сказать, что смех укоренен на коммуникативном уровне общественного бытия.
В наиболее упрощенном виде коммуникативный механизм смеха интерпретируется как реакция субъекта на объект. Информация прежде всего продуцируется объектом смеха, затем расшифровывается субъектом. Истинная информация при декодировании очищается от информационного «шума», обманчивой видимости, лишних и запутывающих данных. Противоре- чие между чрезмерными усилиями, затраченными на декодирование, и простотой истинного решения рождает избыточное понимание, которое, в свою очередь, разряжается в виде смеха.
Однако смеховая коммуникация не может быть понята только как однонаправленная: отправитель-сообщение-полу-чатель. Смех сам по себе является оценочным сообщением, нацеленным на достижение определенного эффекта. Информация, передаваемая смехом, содержит, как правило, негативную оценку объекта с точки зрения его соответствия социальным нормам. Смеховая информация проходит обратный путь от субъекта к объекту; при этом объект в большей или меньшей степени меняется под ее воздействием, направляя свое поведение в социально приемлемое русло. «Процессы коммуникации обычно воздействуют на реципиентов сообщений, хотя остается открытым вопрос, насколько степень этого воздействия соответствует намерениям коммуникаторов. То, что вкладывается в общение, может стимулировать в некотором смысле ответный результат», — пишет Толкотт Пар-сонс9. Эффект, естественно, достигается не во всех случаях: различие в социокультурном опыте участников коммуникации, подавляющий смысл уровень «шума» и т.д. могут привести к рассогласованию в интерпретации. Таким образом, информационная модель смеха является не более чем идеально-типологической. Тем не менее она четко показывает, что смеховая коммуникация реализуется на диалогическом уровне, где термины «субъект» и «объект» —принятые условности; в сущности, необходимо говорить о двух равноправных диалогических субъектах.
Смеховая коммуникация всегда обнаруживает внутреннее устремление к увеличению числа участников: она отличается неполнотой и незавершенностью даже в диалоге двух субъектов. Помимо двух диалогических субъектов —того, кто высмеивает, и того, кого высмеивают, —смех подразумевает и третью позицию —слушателя (слушателей). При этом смех проявляется тем ярче, чем больше людей вовлечены в сферу его воздействия; именно поэтому он так заразителен. Следова- тельно, смех изначально требует социального пространства; его бытие коренится в бытии общественном.
В итоговом виде коммуникативное бытие смеха можно описать как пересечение двух составляющих: передачи-получения сведений и социального взаимодействия. Последнее играет важнейшую роль в понимании смеха: традиционные определения смеха как мнимосущего или как отграничения истины ото лжи объясняют только механизмы и логику развития комического (концентрируясь на простой передаче сообщений), но не пытаются объяснить, почему смех является действенным средством исправления нравов. Между тем именно социальное взаимодействие, которое включено в онтологическую основу смеха, отвечает за его деятельностный характер, уже упомянутую коммуникативную эффективность. Цель социального взаимодействия — взаимопонимание, единые и согласованные действия всех членов общества. Для человека, включенного в общий процесс достижения цели, смех будет символом приятия и единения; для того, кто невольно тормозит этот процесс из-за чрезмерной педантичности, глупости и т. д., смех будет выражением неприятия и своеобразной, но действенной попыткой перевоспитания.
Проблема взаимопонимания предполагает рассмотрение еще одного аспекта коммуникативного бытия смеха — герменевтического. Включенный в процесс социальной коммуникации, он, как уже говорилось, не подразумевает простой передачи сообщения: для достижения эффекта информация должна быть правильно понята; смех, таким образом есть специфическое выражение понимания. Соответственно основные характеристики понимания —целостность, эвристичность, креативность, диалогичность, эмоционально-чувственная, оценочная и культурная обусловлен-ность—применимы и к смеху. Главной же характеристикой, ядром понимания является его социокультурная обусловленность. Понимание всегда базируются на предпонимании — наборе общественно значимых элементов культуры, включающих нормы, традиции, специфические ценностные ориентации, убеждения. Понять адекватно любой культурный текст (в широком значении) —значит понять его контекст — исторический, религиозный, моральный, политический, научный и т. д. В.В. Ильин пишет, что понимание «связано с таким приобщением к смыслам человеческой деятельности, когда сознание начинает резонировать в вещах, а вещи выступают как вещание, раскрывая свой смысловой потенциал, удостоверяемый культурно-историческим, социальным опы-том»10. Именно поэтому, хотя юмор и выступает общим достоянием человечества, его специфические проявления, например национальные или профессиональные, невозможно понять без предпонимания социальных и культурных смыслов, на которых он основан.
Итак, смех есть специфическое выражение понимания. При этом большинство условий смеха (неожиданность, возможность смеяться только над человеком, связь с нормами и т. д.) являются частными выводами из базовых характеристик понимания (диалогичности, эвристичности, социокультурной обусловленности), и, таким образом, имманентно присущи самому пониманию. Однако смех обладает и своей спецификой.
Прежде всего, смех существует только на положительном эмоциональном фоне. Этот положительный фон, за неимением более точного термина, можно обозначить как радость. Отсюда смех — не просто понимание, а радость понимания. В данном контексте радость обозначает любой положительный эмоциональный фон и не несет никаких дополнительных символических нагрузок и ассоциаций.
Естественно, не всякая радость понимания воплощается в смехе. Необходимо еще одно ограничение, которое выводится из соответствующих эмпирических наблюдений. Можно отметить, что при смехе человек расслабляется (говорят: «падать от смеха», «умирать от смеха), как бы теряя часть энергии. Первобытный человек, победивший врага, победно смеется —значит, у него осталось еще достаточно сил для этого смеха. Смешон человек, прилагающий максимальные усилия, толкая незапертую дверь, которую нужно тянуть на себя. Смех вызывает оказавшееся примитивным решение проблемы, которая представлялась чрезвычайно сложной (типичная развязка анекдотов и юмористических рассказов). Все эти случаи говорят об избыточности понимания — решение проблемы (победа над врагом, комическая ситуация, комедийный конфликт и т. д.) оказывается неизмеримо проще, чем затраченные на него усилия (реальные или предполагаемые). Избыточность —важнейшая характеристика смехового понимания; включив ее в определение, смешное в герменевтическом аспекте можно описать достаточно адекватно — смех есть радость избыточного понимания.
Список литературы Социальное бытие смеха
- Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха/В.Я. Пропп. М., 1999. С. 174
- Бергсон А. Смех/А. Бергсон. М., 1992. С. 22
- Шестов Л. Странствования по душам/Л. Шестов//На переломе. М., 1990. С. 382
- Леви-Стросс К. Мифологики. Сырое и приготовленное/К. Леви-Стросс. М.; СПб., 2000. Т. I. С. 130
- Феллини Ф. Делать фильм/Ф. Деллини. М., 1984. С. 127
- Демин В.И. Многоцветие смеха: Комическое в мордовской литературе/В.И. Демин. Саранск, 1998. С. 38
- Николаев Д.П. Сатира Гоголя/Д.П. Николаев. М., 1984
- Бахтин М.М. Рабле и Гоголь//Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 526 -536
- Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения/Т. Парсонс//Американская социологическая мысль. М., 1996. С. 516
- Ильин В.В. Новый миллениум для России: путь в будущее/В.В. Ильин. М., 2001. С. 173