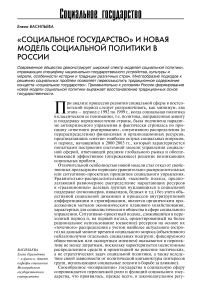"Социальное государство" и новая модель социальной политики в России
Автор: Васильева Елена Геральдовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социальное государство
Статья в выпуске: 11, 2008 года.
Бесплатный доступ
Современное общество демонстрирует широкий спектр моделей социальной политики, отражающих специфику национально-государственного устройства, культуры и морали, особенности истории и традиции различных стран. Многообразие подходов к решению социальных проблем позволяет переосмыслить традиционное содержание концепта «социальное государство». Применительно к условиям России формирование новой модели социальной политики выражает восстановление традиционных основ государственности
Короткий адрес: https://sciup.org/170169189
IDR: 170169189
Текст научной статьи "Социальное государство" и новая модель социальной политики в России
«СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО» И НОВАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Современное общество демонстрирует широкий спектр моделей социальной политики, отражающих специфику национально-государственного устройства, культуры и морали, особенности истории и традиции различных стран. Многообразие подходов к решению социальных проблем позволяет переосмыслить традиционное содержание концепта «социальное государство». Применительно к условиям России формирование новой модели социальной политики выражает восстановление традиционных основ государственности.
П ри анализе процессов развития социальной сферы в постсоветский период следует разграничивать, как минимум, два этапа – период с 1992 по 1999 г., когда социальная политика в классическом ее понимании, т.е. политика, направленная защиту и поддержку народонаселения страны, была подчинена парадигме антикризисного управления и фактически строилась по принципу «ответного реагирования», ситуативного распределения (и перераспределения) финансовых и организационных ресурсов, предполагающих «снятие» наиболее острых социальных вопросов, и период, начавшийся в 2000 2003 гг., который характеризуется попытками построения системной модели управления социальной сферой, отвечающей реалиям глобального рынка и обеспечивающей эффективное (опережающее) решение возникающих социальных проблем.
ВАСИЛЬЕВА
Елена Геральдовна – к.филос.н, доцент кафедры социологии Волгоградского государственного университета
Отличительной особенностью новой модели стал отказ от свойственных предыдущим периодам уравнительно-распределительных или ситуативно-проектных принципов социального управления. Уравнительно-распределительный, «валовой» подход, предполагающий равномерное распределение нарастающих ресурсов в «традиционных» целевых группах нуждающихся в социальной поддержке (пенсионеров, инвалидов, бедных и т.д.) без учета объективной социальной динамики и процессов внутригрупповой дифференциации и стратификации, является органическим продолжением методов экономического планового хозяйствования, характерных для социалистического общества в сфере социального управления. Ситуативно-проектный подход, сложившийся в переходный период и, на первый взгляд, ориентированный на более рациональное использование (освоение) ресурсов на основе их «точечного» распределения с учетом наиболее актуального (острого) на данный момент времени социального запроса (объективного неблагополучия отдельных социальных подгрупп, фиксируемого общественным или экспертным мнением) оказывается в перспективе не менее затратным, поскольку характеризуется несистемным распределением средств и ориентацией на решение тактических, а не стратегических задач социальной политики, а также вследствие своей зависимости от политической конъюнктуры (интересов групп, использующих социальные лозунги в борьбе за влияние).
Своеобразное «возвращение» государства в социальную сферу сопровождается переоценкой роли и функций социального государства, что проявилось, прежде всего, в законодательном регу- лировании меры компетенции и ответственности исполнительных структур власти федерального и муниципального уровней, а также в избирательности финансирования социальных проектов1. В свою очередь, формирование новой концепции социальной политики вызвало оживленную теоретическую дискуссию относительно содержания понятия «социальное государство» в условиях глобального рынка, а также возможности использования данного понятия при анализе процессов социального реформирования в современной России2.
В общеисторическом плане возрастающее внимание государства к проблемам социальной политики определяется тем, что социальная функция является одной из ключевых функций, оправдывающих общественную необходимость или предназначение самого института государства. Понимая под социальной политикой систему мер, обеспечивающую решения во всех сферах, представляющих социальные потребности общества и его слоев, следует признать необходимость дополнительного регулирования процесса принятия данных мер вследствие существующего конфликта социальных интересов и дефицита социальных благ. Несмотря на многочисленные споры о том, насколько хорошо или плохо государство может реализовать в принципе (или реализует фактически) управленческие функции в социальной сфере, идея социальной миссии государства как института, обеспечивающего регулирование и согласование интересов различных социальных групп и социально-территориальных общностей для устойчивого развития общества в целях реализации долговременных социальных стратегий в целом, не подвергается сомнению.
Определяя возможности развития социального государства в современном российском обществе, необходимо указать на переосмысление сущности и содержания социальной политики государства, которое происходит сегодня во всем мире. Фактически это означает попытку совмещения идеологем «социального государства» и «социального менеджмента» в практике социального обеспечения и защиты. В новых исторических условиях – условиях наступления глобального рынка – социальная ответственность государства связывается с предоставлением населению определенного, законодательно регламентированного набора социальных благ – гарантированного социального минимума. При этом и, прежде всего, вследствие осознания возможной угрозы возникновения ситуации социального государственного тоталитаризма, государство все больше освобождается от узко-управленческих функций, связанных с распределением средств на уровне конечных потребителей, сосредоточиваясь на регулировании институциональных взаимодействий в социальной сфере. Но это не уменьшает, а напротив, увеличивает сферу компетенции государства, выступающего в качестве гаранта сбалансированной социальной политики и основного субъекта-носителя социальной миссии. С одной стороны, государство поддерживает и контролирует некоторые общие правила игры, не препятствующие процессам социального саморегулирования в решении задач социальной защиты и поддержки населения. С другой стороны, оно устанавливает приоритетные направления сбалансированной социальной политики и разрабатывает технологии бюджетного финансирования социальных программ (приоритетных национальных проектов).
Изменение роли государства в направлении регулирования системы институциональных взаимодействий задается в первую очередь необходимостью эффективного менеджмента на всех уровнях реализации мероприятий социальной политики, что проявляется в попытках создания дополнительной, негосударс- твенной институциональной подсистемы социальной поддержки – выстраивания альтернативной сетевой технологии решения социальных проблем на основе гражданских социальных инициатив. Главной отличительной особенностью современного периода является поиск и развитие адекватных современным рыночным условиям технологий взаимодействия государственных («традиционно» занимающихся решением социальных проблем) и негосударственных структур (организаций сектора НКО, альтернативных инициатив, благотворительных проектов), обеспечивающих новое качество управления в социальной сфере – управления более гибкого, динамичного, реализуемого по принципу «сетевого» воздействия и ориентированного в первую очередь на ресурсосбережение. В новой концепции социальной политики данные институциональные структуры рассматриваются в качестве инструмента более тонкой настройки для фиксации актуальных социальных притязаний и массовых ожиданий, а также процесса их объективации в эффективных социально-управленческих технологиях, отвечающих принципам «рационального социального менеджмента», т.е. малозатратных и результативных. Включение новых институциональных структур в сферу социальной политики предопределяет и изменение традиционных процедур разработки значимых решений посредством легитимации и развития процедур общественной экспертизы, позволяет учитывать новые социальные инициативы и благотворительную помощь со стороны бизнеса. В конечном счете, оно приводит к значительному расширению спектра и объемов социальной поддержки в обществе, прежде всего, посредством сетевого охвата данной поддержкой тех групп и слоев, которые не «охватываются» традиционными формами.
Таким образом, следует констатировать, что наблюдаемый «возврат» российского государства в социальную сферу вовсе не означает возврат к социалистическим методам ее регулирования, но определяется общемировыми тенденциями развития социального государства в условиях глобализирующегося мира. В то же время необходимо отметить определенную специфичность реализации социального государства, которая состоит во вза- имообусловленности экономического и политического факторов, определяющих его существование. Данная особенность отчетливо проявляется при рассмотрении символических аспектов формирования новой модели социальной политики. Так, с одной стороны, активизация властных структур в отношении вопросов образования, здравоохранения, социального обслуживания и обеспечения населения является показателем достижений национальной экономики, позволяющих значительно увеличить объемы финансовых ресурсов, направляемых в социальную сферу, открывающих перспективу более качественного решения традиционных социальных проблем. С другой стороны, само «возвращение» государства в социальную сферу означает укрепление российской государственности, ее символическое самоопределение (переопределение) в новых исторических условиях. Соединение указанных факторов обеспечивает системную стабилизацию общества, которое получает новые возможности развития посредством обретения необходимой стратегической перспективы, и, таким образом, возможности реализации более качественной социальной поддержки населения.
Характеризуя символическую сторону процесса формирования новой модели социальной политики, следует обратить внимание на то, что социальные проблемы в нашей стране традиционно являлись и являются до сих пор «слишком» политическими, т.е. дискурсивно конструируются в большей степени в идеолого-мифологическом, чем социально-технологическом языковом контексте. «Политическая» отягощенность социальной проблематики проявляется, прежде всего, в структурной взаимосвязи концептов «социальная справедливость» «верховная власть», которая интегрирует относительно самостоятельные сферы социального опыта и задает их единую смысловую интерпретацию, необходимую для мотивационной мобилизации социальных агентов. Так, конструкт «социальной справедливости» предполагает гармонизацию социальных отношений, направленную на устранение значительных диспропорций в статусном положении членов сообщества посредством компенсирующего влияния мер общественной поддержки. Он изначально предполагает существование множества социальных групп и множества различных ситуаций, допускает возможность выражения целого спектра социальных ожиданий и потребностей, т.е. оказывается в какой-то мере близким принципу политической толерантности, доминирующему в западноевропейском политическом дискурсе. Кроме того, что особенно важно, он определяет соразмерность (справедливость/несправедли-вость) выдвигаемых притязаний с учетом общественной значимости статусных лишений различных социальных групп, т.е. предполагает некоторую вертикальную иерархизацию статусных позиций на основе социальных оценок восприятия.
Совмещение горизонтального и вертикального измерений задает и смысловое оправдание конструкта «верховная власть», которая трактуется не просто как «высшая власть», а как власть, уравновешивающая потенциальное множество притязаний, и именно вследствие своей способности выражать их наиболее гармоничным образом «имеющая право» занимать высшую иерархическую позицию.
Здесь необходимо оговорить один очень важный момент, касающийся специфики российской исторической политической культуры, которая определяется через концепт патернализма. Доминирующие интерпретации патернализма связывают данное понятие с дихотомией господс-тва/подчинения, что ограничивает возможность понимания символической составляющей социальной взаимосвязи властвующих субъектов и рядовой массы членов общества. Более глубокое содержание данной взаимосвязи, легитимирующее основы российской государственности, укоренено в мифологеме служения верховной власти народу и принятия народом верховной власти. Именно служение-принятие становится внутренним источником права властвования государства и основой гражданского подчинения государству, выступает необходимым условием социально-политического единства общества.
Применительно к социальной сфере мифологема служения-принятия традиционно задавалась обязанностью государства определять основные направления распределения общественного богатства (дохода) с учетом имеющихся социальных лишений, а требование справедливости при этом традиционно предполагало долг государства заботиться обо всех (!) членах общества. В этом смысле российское государство всегда выступало в качестве «социального государства», выражающего принцип всеобщности социальной поддержки. Границы «справедливости/несправедливости» при этом задаются не внешними, а внутренними факторами развития системы: требования интеграции и солидарности оказываются неизмеримо важнее требований изменения и эффективности. Высокая степень неопределенности и потенциальной конфликтности отношений социальной сферы определяет необходимость более «тонкого», дифференцированного управляющего воздействия, которое обеспечивается «верховной властью», принимающей на себя бремя ответственности за адекватное выражение действительной значимости статусных лишений. Именно эта особенность выражает специфичность российской традиционной культуры социальной поддержки и защиты членов общества, где «социальное государство» оказывается в роли внешней независимой инстанции, обеспечивающей согласование множества разнонаправленных индивидуальных притязаний на основе добровольного согласия всех членов общества в обмен на обязательство со стороны власти недопущения критических (кризисных) ситуаций в социальном положении отдельных групп и индивидов.
В этой связи следует заметить, что европейская идея «социального государства» радикально отличается от российской, поскольку предполагает социальную поддержку определенных групп признанных местным сообществом в качестве нуждающихся, т.е. основана на принципах целевого подхода. Идеологема социального государства стала определять европейскую политику лишь в середине 50-х гг. XX в., а в дальнейшем была подвергнута радикальному пересмотру вследствие менеджериализации социального управления. Требование эффективности в определенной мере нивелирует принцип всеобщности социальной поддержки.