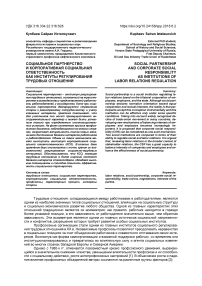Социальное партнерство и корпоративная социальная ответственность как институты регулирования трудовых отношений
Автор: Купбаев Сайран Изтелеуович
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 6, 2018 года.
Бесплатный доступ
Социальное партнерство - институт регулирования трудовых отношений, основанный на трехстороннем взаимодействии представителей работников, работодателей и государства. Хотя при социальном партнерстве декларируется стремление сторон к равноправному сотрудничеству и учету взаимных интересов, практика показывает, что для участников оно носит преимущественно инструментальный характер и может быть успешным только при определенных институциональных условиях. На фоне системного кризиса профсоюзного движения, наблюдающегося во многих странах, возрастает актуальность поиска новых механизмов достижения баланса интересов работников и работодателей. Одним из таких механизмов может выступить институт корпоративной социальной ответственности (КСО). В статье дано сравнение двух институтов с точки зрения их возможностей регулирования социально-трудовых отношений. Обосновывается, что КСО, помещая трудовые отношения в более широкий контекст баланса интересов стейкхолдеров, обладает высоким потенциалом и способна повысить эффективность социального партнерства.
Трудовые отношения, социальное партнерство, корпоративная социальная ответственность, профсоюзы, переговорный процесс, интересы сторон
Короткий адрес: https://sciup.org/14940338
IDR: 14940338 | УДК: 316.334.22:316.628 | DOI: 10.24158/spp.2018.6.2
Текст научной статьи Социальное партнерство и корпоративная социальная ответственность как институты регулирования трудовых отношений
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Трудовые отношения, складывающиеся между работниками и работодателями, являются одним из наиболее значимых типов социальных отношений, влияющих на социальную структуру и социально-экономическое развитие любого общества. Одной из главных характеристик этих отношений традиционно является их асимметрия: как правило, работник находится в гораздо более уязвимой позиции, а его зависимость от работодателя значительно выше, чем обратная зависимость. Эта асимметрия является одним из главных источников социальной напряженности и конфликтов, разрешение которых требует развития особых социальных институтов.
Профсоюзные организации стали одним из главных институтов социального регулирования трудовых отношений в XX в. Независимые профсоюзы позволяют преодолевать неравенство в социальных позициях за счет объединения работников и совместного отстаивания своих интересов. Возникнув как форма самоорганизации и взаимной поддержки рабочих, со временем они институционализировались и превратились во влиятельную силу и агента социальных изменений во многих странах Западной Европы и Северной Америки.
Однако с 1980-х гг. отмечается повсеместный кризис профсоюзного движения, выражающийся в значительном снижении членства, уменьшении влиятельности профсоюза и их способности к социальному действию, росте антипрофсоюзных настроений [1]. В объяснении роста и падения влияния профсоюзных объединений авторы ссылаются на различные группы факторов [2]:
-
– циклические – влияние циклов деловой активности и экономического развития, роль электоральных циклов и изменения относительной влиятельности левых и правых партий;
-
– структурные – изменения в структуре рабочей силы и увеличение доли «белых воротничков», рост индивидуалистических социальных ценностей;
-
– институциональные – развитие институтов социальной поддержки, в частности системы социального страхования, снижение легальных возможностей профсоюзов для деятельности внутри организаций, изменения в стратегиях работодателей.
Некоторые исследования, проведенные в Западной Европе, показывают, что наибольшее воздействие на снижение влиятельности профсоюзов оказали институциональные факторы [3]. В США отмечается также важность экономических и особенно политических факторов, таких как отсутствие эффективного политического лидерства [4].
Универсальное значение имеет глобальная трансформация социально-экономических отношений, связанная с переходом к постиндустриальному обществу. Традиционно профсоюзы были выразителем интересов рабочих, причем работающих преимущественно на крупных предприятиях «центральных секторов» экономики [5, с. 123]. Американский социолог Д. Белл прогнозировал, что по мере перехода к постиндустриальному обществу значимость профсоюзов будет уменьшаться, членство в них будет поддерживаться в основном за счет госсектора, а квалифицированные работники будут стремиться к защите своих интересов при помощи других способов, таких как членство в независимых ассоциациях [6, с. 187–188, 194]. Насколько можно судить, этот прогноз полностью оправдался в США [7]: число членов профессиональных ассоциаций в них более чем в 6 раз превышает число членов профсоюзов [8]. В европейских странах ситуация не такая однозначная, хотя общая тенденция сокращения членства в профсоюзах также подтверждается.
В СССР, а также других социалистических странах роль профсоюзов традиционно отличалась от развитых западных стран. Если в странах с рыночной экономикой профсоюзы выступают именно в качестве коллективного актора, представляющего интересы конкретной социальной группы, то в социалистическом обществе они, по сути, стали частью государственного аппарата, воспроизводя его бюрократическую структуру и не являясь полноправными участниками регулирования социально-трудовых отношений [9]. Это наложило отпечаток на функционирование профсоюзных организаций на постсоветском пространстве, приведя, по сути, к формированию двух типов профсоюзов, которые иногда называются традиционными и альтернативными [10]. Если первые зависят от администрации и сохраняют основные функции и практики советских профсоюзов, то вторые стремятся выполнять ключевые задачи защиты прав работников в ходе коллективных переговоров с работодателями.
Независимые профсоюзы являются центральным звеном модели общественного регулирования трудовых отношений, известной как социальное партнерство. В сфере социально-трудовых отношений под социальным партнерством обычно понимают трехстороннее сотрудничество между государством, представителями работников (в виде профсоюзов) и работодателями (в том числе объединениями работодателей). Понятие социального партнерства отражено в трудовых кодексах России, Казахстана и других стран постсоветского пространства. В зарубежной практике этот термин наиболее часто используется в Великобритании и Ирландии, в других случаях используются близкие по смыслу понятия «социальный пакт» и «социальный диалог» [11]. К числу возможных функций социального партнерства могут относиться как частные вопросы уровня заработных плат и создания рабочих мест в определенной отрасли или на предприятии, так и процесс совместной выработки социальной политики в области труда [12].
К числу основных преимуществ социального партнерства, в сравнении с традиционной профсоюзной моделью, можно отнести следующие [13]:
-
– Предоставляя альтернативные возможности защиты своих интересов, соглашения о партнерстве снижают риски более радикальных форм защиты интересов работников, таких как забастовки.
-
– Такие соглашения расширяют перечень вопросов, на которые могут влиять профсоюзы, например за счет вопросов гарантий занятости и обучения работников.
-
– Позволяет преодолеть складывающееся негативное отношение работников к традиционным профсоюзам и представляет собой «свежий взгляд» на отношения работников и работодателей.
-
– Отражает желание большинства работников, чтобы отношения между профсоюзами и компаниями носили более кооперативный, а не конфликтный характер.
-
– Многие работодатели также более охотно идут на переговоры с профсоюзами, которые реализуют кооперативную модель защиты интересов своих членов.
Соглашения и договоренности, лежащие в основе социального партнерства, могут значительно различаться по содержанию. С социологической точки зрения основным фактором, определяющим возможности диалога, выступает социальное неравенство, вызванное различиями в ресурсах, которыми располагают стороны при реализации своей стратегии. Различия в позициях, в свою очередь, зависят от множества условий: ситуации на рынке труда, конкуренции и положения компании на рынке, важности социальных связей работников для деятельности предприятия, а также от численности профсоюза и его способности мобилизовать своих членов для коллективного действия. Очевидно, что слишком значительный дисбаланс делает такое партнерство простым обременением для сильного партнера, которым, как правило, является организация.
Различия в ресурсах, таким образом, определяют структурные отношения между сторонами социального партнерства. С процессуальной точки зрения социальное партнерство является переговорным процессом. В отличие от традиционного профсоюзного движения, социальное партнерство предполагает, что стороны декларируют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и учету взаимных интересов, а также демонстрируют соответствующее поведение.
Однако сами по себе декларируемые нормативные ориентации не гарантируют выполнение функций института социального партнерства по согласованию интересов сторон, поскольку не устраняют фундаментальной причины противоречий: объективного различия в интересах и социальных позициях различных социальных групп.
Результаты реализации партнерских моделей отношений в разных странах показывают неоднозначные последствия с точки зрения их возможности находить баланс интересов различных сторон. Примером успешного воплощения концепции трехстороннего сотрудничества может служить Швеция. Регулирование рынка рабочей силы, заработной платы и условий труда в рамках шведской модели социального государства основано на высоком уровне готовности к переговорам и компромиссам в поиске баланса между гибкостью и гарантиями на рынке [14]. Развитие партнерских отношений способствовало снижению остроты трудовых конфликтов в Греции, Италии и Франции [15]. В Великобритании и Ирландии социальный эффект от партнерских соглашений был признан незначительным, а общее состояние данного института в ряде случаев оценивается как кризисное [16].
Практика европейских и других стран позволяет заключить, что в основе социального партнерства, несмотря на декларации ценностей сотрудничества и кооперации, лежит преимущественно конфликтная логика. Результаты масштабного исследования европейских специалистов показали, что преследование собственных интересов, как институциональных, так и личных, играет доминирующую роль в определении переговорной позиции сторон, тогда как роль нормативных идей («социальное партнерство», «европейская социальная модель») является весьма ограниченной [17].
Иными словами, опыт стран с наиболее развитыми моделями социального партнерства показывает, что трехстороннее взаимодействие носит не столько нормативный, сколько инструментальный характер. В том случае, когда такое взаимодействие перестает приносить инструментальную пользу, стороны склонны выходить из переговорного процесса. Слабость и инструментальный характер института социального партнерства оказываются очевидны в условиях экономического кризиса, когда наиболее остро проявляются противоречия между интересами сторон и ключевые акторы (в том числе государство) начинают отказываться от взаимодействия [18].
Результаты переговорного процесса во многом определяются различиями в ресурсах и возможностях сторон, их относительной силой и влиянием. Поскольку позиции профсоюзов, представляющих интересы работников, в настоящее время значительно ослаблены, становится все более актуальной задача поиска более эффективных механизмов согласования интересов участников трудовых отношений. Особенно острой эта проблема является для стран бывшего СССР, в которых профсоюзы в значительной мере унаследовали институциональные черты советской модели и сильно зависят от государства и работодателей. Членство в профессиональных ассоциациях в таких странах не может считаться полноценной альтернативой профсоюзам, поскольку ими охвачено сравнительно небольшое число работников. Например, в Казахстане и России о своем участии в деятельности профессиональных ассоциаций заявляют соответственно 5,1 и 3,3 % участников масштабных социологических опросов [19]. Это приблизительно в 2 и 3 раза меньше, чем число членов профсоюзов, притом что последние обладают невысокой самостоятельностью и ограниченными возможностями влияния на социальную политику и отношения работников с работодателями [20].
Представляется, что в таких условиях если не альтернативным, то по крайней мере дополнительным механизмом социального регулирования трудовых отношений и поиска баланса интересов сторон может стать концепция корпоративной социальной ответственности (КСО), находящаяся сейчас на этапе активной институционализации. Концепция КСО предполагает, что компания добровольно отказывается от действий исключительно в собственных, узкопонимаемых финансовых интересах и включает в свою стратегию интересы других заинтересованных сторон, в том числе работников.
Если поначалу казалось, что эта концепция противоречит рыночной логике и основана исключительно на этической готовности менеджмента и собственников к благотворительности, то дальнейшая эволюция теории и практики КСО показала, что ее воплощение носит вполне прагматический характер и отвечает долгосрочным интересам как общества, так и самих компаний [21]. К настоящему времени разработан целый ряд концепций и подходов, основанных на представлении о том, что компании должны инкорпорировать в свою деятельность интересы не только собственников и менеджмента, но и множества других заинтересованных лиц [22].
На первый взгляд может показаться, что КСО не может выступать в качестве полноценной альтернативы социальному партнерству и предоставляет гораздо меньше возможностей для учета интересов работников. Действительно, если социальное партнерство является по своей сути переговорным процессом, изначально предусматривая активное участие работников как полноправного актора, то КСО – это элемент системы корпоративного управления и политики компании, которая тем самым оказывается единственным полноценным и полноправным актором. Если социальное партнерство предполагает принятие взаимных обязательств и контроль над их соблюдением, то в случае КСО такие обязательства носят добровольный характер и принимаются внутренними решениями компании.
В таблице 1 суммированы основные различия между социальным партнерством и КСО как социальными институтами, участвующими в регулировании трудовых отношений
Таблица 1 - Содержательные различия социального партнерства и КСО как институтов регулирования социально-трудовых отношений
|
Признак |
Социальное партнерство |
КСО |
|
Механизм согласования интересов |
Многосторонние переговоры |
Комплексная деятельность |
|
Роль трудовых отношений |
Непосредственный предмет регулирования |
Одна из сфер ответственности компании |
|
Общая ориентация концепции |
Нормативная (этическая) |
Управленческая (стратегическая) |
|
Регулятивная основа |
Трудовое законодательство |
Внутренние документы компании, определяющие ее политику в области КСО |
|
Ключевые акторы |
Профсоюзы, работодатели, государство |
Работодатели (органы корпоративного управления) |
|
Роль государства |
Высокая |
Низкая |
|
Рациональные мотивы для участия компании |
Инструментальные (тактические) |
Стратегические |
|
Состав заинтересованной стороны «работники» |
Работники, находящиеся в официальных трудовых отношениях |
Могут учитываться любые формы занятости (штатные, внештатные работники, фрилансеры, подрядчики – индивидуальные предприниматели и т. п.) |
|
Участие работников в защите своих интересов |
Обязательно |
Возможно |
|
Форма учета мнений и позиций работников |
Опосредованная (через позицию представительного органа) |
Прямая или опосредованная (внутренний мониторинг, исследования, объединения работников, индивидуальные обращения, коллективные обращения, представительные органы и др.) |
|
Зависимость от членства в профсоюзах |
Высокая |
Отсутствует |
|
Зависимость итоговых решений от силы профсоюзов |
Высокая |
Низкая |
|
Применимость в небольших компаниях |
Низкая |
Высокая |
|
Подотчетность |
Отсутствует |
Присутствует |
|
Основная проблема |
Коллективное действие |
Выработка стратегии |
|
Ключевые условия эффективности |
Поддержка государства Сила профсоюзов |
Стратегическая ориентация компании Сила заинтересованных сторон |
На наш взгляд, механизмы регулирования трудовых отношений, основанные на КСО, обладают значительным потенциалом и имеют ряд преимуществ в сравнении с социальным партнерством. В пользу КСО можно выдвинуть несколько аргументов.
-
1. Деятельность в области КСО интегрирована в систему корпоративного управления компанией. Все, что касается корпоративного управления, по определению имеет приоритетную значимость для организации. Современная концепция КСО основана на теории стейкхолдеров и пред-
- полагает стратегическую ценность, которую для компании имеет учет интересов различных заинтересованных сторон. К числу таких заинтересованных сторон относятся работники, поставщики, потребители, местные жители, общество в целом. Инкорпорирование их интересов в бизнес-стратегию и организационные практики, хотя и может быть сопряжено с сиюминутными издержками, благоприятно влияет на всю стратегическую среду компании. Положительные эффекты от КСО включают в себя рост репутации и лояльности потребителей, расширение доступа к ресурсам, увеличение операционной эффективности, повышение инвестиционной привлекательности, снижение рисков, увеличение организационных и рыночных возможностей [23]. Тем самым создается одно из главных условий эффективности, сформулированных и в отношении социального партнерства, а именно – объективная выгодность дополнительных обязательств для компании.
-
2. В отличие от социального партнерства, КСО предполагает учет интересов значительно большего количества сторон. Если в случае социального партнерства речь идет исключительно о работниках и не распространяется даже на членов их семей, то в случае КСО этот список значительно шире и потенциально открыт для новых социальных групп. Важность этого аргумента заключается в том, что множество различных сторон в совокупности обладают большей значимостью для компании и большими возможностями оказания на нее давления, чем любая отдельная сторона. Следовательно, вероятность того, что компания будет принимать их интересы во внимание и ориентироваться на поиск сбалансированных решений, значительно выше.
-
3. В настоящее время КСО является полноценным социальным институтом c широким набором функций и механизмов, реализуемых на практике [24]. Важнейшую роль в институционализации КСО сыграла разработка ряда международных стандартов, прежде всего ISO 26000, а также стандарта социальной отчетности GRI. Принятие крупнейшими компаниями стандарта ISO 26000 требует от них разработки организационно-управленческих механизмов и процедур, обеспечивающих соблюдение таких принципов, как подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, соблюдение верховенства закона и международных норм поведения, соблюдение прав человека [25]. Несложно видеть, что перечень принципов КСО в значительной мере перекликается и во многих отношениях превышает требования социального партнерства. Раздел стандартов КСО, посвященный отношениям с работниками, предполагает реализацию модели социального диалога, однако дополняет его и другими трудовыми практиками. Помимо собственно стандартов, в современный институт КСО входят и другие важные элементы: включение элементов КСО в кодексы корпоративного управления (в частности, ОЭСР), действие множества влиятельных международных организаций, разрабатывающих стандарты и иные документы в области КСО, осуществляющих мониторинг практик КСО и публикующих рекомендации, обеспечивающие поддержку и продвижение идей КСО.
-
4. КСО универсально применима к любым организациям и не требует наличия профсоюзов. Профсоюзы, формально являясь представителями работников, де-факто могут преследовать собственные цели, а также вступать в сговор с работодателями. Модель, основанная на КСО, может действовать при отсутствии или слабости профсоюзов, а также способствует большей восприимчивости компании к переговорам по вопросам социального партнерства.
Приведенные аргументы, конечно, не означают, что КСО способна решить задачи регулирования социально-трудовых отношений в любой ситуации и является заменой социального партнерства. Принципы социального партнерства во многих странах закреплены законодательно, тогда как КСО основана на добровольном принятии определенных стандартов. Успешная реализация принципов КСО также требует определенной институциональной среды и управленческой культуры. Взаимосвязь и сравнительная эффективность двух названных институтов в области регулирования трудовых отношений в настоящее время остается малоисследованной, что делает актуальной проверку выдвинутой гипотезы в конкретных институциональных контекстах.
Особый интерес подход, основанный на КСО, представляет в странах с высокой ролью государства в экономике. Трехстороннее взаимодействие в таком случае зачастую оказывается фикцией, поскольку государство и крупные работодатели (например, нефтегазовые компании или банки) находятся «по одну сторону баррикад», а профсоюзы, даже если они и являются независимыми (что в этом случае маловероятно), практически не имеют рычагов воздействия на своих социальных «партнеров». В противоположность этому крупные корпорации, ведущие деятельность на глобальных рынках, с большой долей вероятности будут ориентироваться на международные стандарты и принципы управления, в том числе и в области КСО. Поэтому можно предположить, что в странах с доминированием в экономике контролируемых государством компаний КСО может оказаться более эффективным институтом, чем социальное партнерство, в сфере достижения баланса интересов работников и работодателей. Эта гипотеза, однако, также нуждается в дальнейших исследованиях и эмпирической проверке.
Ссылки:
Список литературы Социальное партнерство и корпоративная социальная ответственность как институты регулирования трудовых отношений
- Ebbinghaus B., Visser J. When Institutions Matter: Union Growth and Decline in Western Europe, 1950-1995//European Sociological Review. 1999. Vol. 15, no. 2. P. 135-158.
- Fraser W.H. A History of British Trade Unionism, 1700-1998. Houndmills, 1999. 291 p.
- Rosenfeld J. What Unions No Longer Do. Cambridge (Mass.); L., 2014. 288 p.
- Upchurch M., Taylor G., Mathers A. The Crisis of Social Democratic Trade Unionism in Western Europe: The Search for Alternatives. Aldershot, 2009. 244 p.
- Гидденс Э. Стратификация и классовая структура//Социс. 1992. № 9. С. 112-123.
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2004. 788 с.
- World Values Survey: Round Six -Country-Pooled Datafile 2010-2014 /ed. by R.C. Inglehart, et al.//World Values Survey. Madrid, 2014. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp (дата обращения: 20.05.2018).
- Pringle T., Clarke S. The Challenge of Transition: Trade Unions in Russia, China and Vietnam. Houndmills, 2011. 230 p.
- Бизюков П.В. Альтернативные профсоюзы на пути освоения социального пространства//Социс. 2001. № 5. С. 30-40.
- Kelly J. Social Partnership Agreements in Britain: Labor Cooperation and Compliance//Industrial Relations. 2004. Vol. 43, no. 1. P. 267-292. https://doi.org/10.1111/j.0019-8676.2004.00326.x.
- Social Pacts in Europe: New Dynamics/ed. by G. Fajertag, P. Pochet. 2nd ed. Brussels, 2000. 422 p.
- Social Partnership in the European Union/ed. by H. Compston, J. Greenwood. Houndmills, 2001. 218 p.
- Яковчук В.Н. Социальное партнерство в сфере труда. Минск, 2010. 128 с.
- Anxo D. Shaping the Future of Work in Sweden: The Crucial Role of Social Partnership//Reducing Inequalities in Europe: How Industrial Relations and Labour Policies Can Close the Gap/ed. by D. Vaughan-Whitehead. Cheltenham, 2018. P. 519-554.
- Vaughan-Whitehead D., Vazquez-Alvarez R. Curbing Inequalities in Europe: The Impact of Industrial Relations and Labour Policies//Ibid. P. 1-67.
- Culpepper P.D., Regan A. Why Don’t Governments Need Trade Unions Anymore? The Death of Social Pacts in Ireland and Italy//Socio-Economic Review. 2014. Vol. 12. P. 723-745. https://doi.org/10.1093/ser/mwt028.
- Doherty M. It Must Have Been Love… But It’s Over Now: The Crisis and Collapse of Social Partnership in Ireland//Transfer: European Review of Labour and Research. 2011. Vol. 17, no. 3. P. 371-375.
- Козина И.М. Российские профсоюзы: трансформация отношений внутри традиционной структуры//Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 5. С. 75-92.
- Эргашев Б. Профессиональные союзы в независимых государствах Центральной Азии и Кавказа: состояние, проблемы, перспективы//Центральная Азия и Кавказ. 2011. Т. 14, вып. 3. С. 120-132.
- Lydenberg S.D. Corporations and the Public Interest: Guiding the Invisible Hand. San Francisco, 2005. 192 p.
- Благов Ю.Е. Эволюция концепции КСО и теория стратегического управления//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Менеджмент. 2011. № 1. С. 3-26.
- Aguinis H., Glavas A. What We Know and Don’t Know about Corporate Social Responsibility: A Review and Research Agenda//Journal of Management. 2012. Vol. 38, no. 4. P. 932-968. https://doi.org/10.1177/0149206311436079.
- Фролов Д.П., Шулимова А.А. Институциональная системность социальной ответственности бизнеса (природа, институции, механизм)//Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2013. № 1. С. 124-144.
- ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной ответственности. М., 2014.