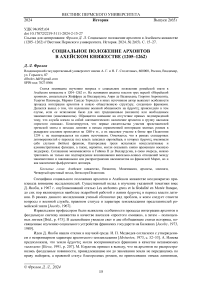Социальное положение архонтов в Ахейском княжестве (1205-1262)
Автор: Фролов Д.Л.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Кросс-культурные влияния и конфликты интересов в истории государств и империй
Статья в выпуске: 2 (65), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению вопроса о социальном положении ромейской знати в Ахейском княжестве в 1204-1262 гг. На основании анализа текстов трех версий «Морейской хроники», свидетельств Жоффруа де Виллардуэна, Анри де Валансьена, Георгия Акрополита, Георгия Пахимера, Марино Санудо Торчелло и иных источников автор выявляет особенности процесса интеграции архонтов в новую общественную структуру, созданную франками. Делается вывод о том, что наложение военной обязанности на ἄρχοντες происходило в том случае, если ее исполнение было для них традиционным (милинги) или необходимым завоевателям (монемвасиоты). Обращается внимание на отсутствие прямых подтверждений тому, что служба влекла за собой «автоматическое» включение архонтов в группу вассалов «простого оммажа». Констатируется, что первые свидетельства участия представителей греческой элиты в походах латинян и начала ограниченной интеграции знатных ромеев в рыцарское сословие приходятся на 1260-е гг., а их массовое участие в битве при Пелагонии 1259 г. не подтверждается ни одним источником. Отмечается, что в рамках стандартных договоренностей о переходе под власть западных европейцев, в которых ἄρχοντες именовали себя слугами (δοῦλοι) франков, благородные греки исполняли консультативные и административные функции, а также, вероятно, могли оказывать князю временную военную поддержку. Соглашение монемвасиотов и Гийома II де Виллардуэна, в свою очередь, можно трактовать не только как подтверждение возникновения вассально-ленных отношений между завоевателями и завоеванными или распространения наемничества во франкской Морее, но и как заключение фьеф-рентного договора.
Ахейское княжество, византия, монемвасия, архонты, милинги, четвертый крестовый поход, битва при пелагонии
Короткий адрес: https://sciup.org/147246530
IDR: 147246530 | УДК: 94(495).04 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-2-15-27
Текст научной статьи Социальное положение архонтов в Ахейском княжестве (1205-1262)
Специфика социального положения архонтов в Ахейском княжестве неоднократно привлекала внимание исследователей. Существенный вклад в изучение указанной тематики внес Д. Якоби, в 1967 г. опубликовавший статью Les archontes grecs et la féodalité en Morée franque, до сих пор являющуюся наиболее подробной работой о жизни ἄρχοντες в период власти латинян. В рамках данного исследования ученый обозначил ряд проблем, к коим следует отнести вопросы о военной службе, правовом статусе и характере землевладения представителей ромейской знати [ Jacoby , 1967].
Израильским профессором были выявлены особенности процесса интеграции архонтов в феодальную систему княжества в качестве вассалов «простого оммажа», а затем – полноценных лигиев [Ibid., p. 475]. В дальнейшем увидели свет и две обобщающие статьи историка, посвященные изучению социального устройства франкских государств на Балканах [ Jacoby , 1973, 1989].
Идеи Д. Якоби нашли отклик в научной среде. И. П. Медведев согласился с утверждением о непрониарном характере архонтского землевладения [ Медведев , 1973, с. 52–53]. А. Илиева предположила, что земли ἄρχοντες могли восприниматься франками в качестве независимых «аллодов» [ Ilieva , 1991, p. 207]. М. Кордозис пришел к выводу, что на архонтов не распространялись феодальные повинности, принадлежавшие им до завоевания земли не передавались по праву майората, а правовой статус благородных ромеев, не приносивших оммаж латинянам,
подразумевал их нахождение на низшей ступени иерархии морейской элиты. Вместе с тем греческий специалист отмечал, что отдельные представители местной знати уже вскоре после IV Крестового похода начали инкорпорироваться в вассально-ленную структуру княжества за счет получения «феодальных» земель [ Kordoses , 1987, p. 93].
Идею М. Кордозиса об изначальном отсутствии воинской повинности у ἄρχοντες разделял Х. Гаспарис1. Он же полагал, что ключевым событием, послужившим ускоренной интеграции архонтов в феодальную систему на правах полноценных вассалов, стало появление византийских сил на Пелопоннесе в 1262 г.2 [ Gasparis , 2015, p. 107].
Обратим внимание и на диссертацию Т. Е. Белоруссовой, содержащую утверждение о том, что «еще до византийской реставрации греческая знать Ахейского княжества участвовала в военных действиях под началом ахейского князя», аргументированное свидетельством Георгия Акрополита о присутствии ἄρχοντες «Ахайи и Лаконии» во франкском войске в битве при Пелагонии в 1259 г. [ Белоруссова , 2023, с. 159].
Таким образом, проблемы, сформулированные Д. Якоби в 60-е гг. XX в., были весьма подробно изучены несколькими поколениями исследователей. Однако к настоящему моменту остается ряд нерешенных вопросов, связанных с социальным положением архонтов в начальный период франкской власти на Балканах (1204–1262):
-
1. При каких условиях происходило наложение на представителей знати военной обязанности? Влекло ли оно переход благородного ромея в ранг полноценных феодалов или вассалов простого оммажа?
-
2. К какому периоду следует отнести первые подтверждения участия благородных греков в военных кампаниях франков ‒ до или после византийской реставрации в Морее (1262 г.)?
-
3. Существовали ли иные пути и формы взаимодействия франкской и местной элит, за исключением принесения последней оммажа или простого признания подданства без вассальных обязательств?
Перед анализом поставленных проблем отметим, что в 1204–1205 гг. практически все западные территории Византии подверглись завоеванию со стороны франко-венецианского войска. В результате данного процесса на Пелопоннесе, к моменту IV Крестового похода фактически контролировавшемся представителями наиболее влиятельных ромейских семей, установилась власть западных сюзеренов. Что это означало для ἄρχοντες? В данном отношении весьма важным представляется замечание Д. Якоби о том, что рыцари, вторгшиеся на Пелопоннес, посчитали представителей византийской знати своими «двойниками» (counterparts) [ Jacoby , 1989, p. 899]. Предположение исследователя подтверждается словами Жоффруа де Виллардуэна, использовавшего словосочетание chevaliers de Grius в отношении ромейской конницы, а также (косвенно) употреблением им термина fealte для описания процедуры установления официальных отношений между греками и их латинскими сеньорами ( Villehardouin , 1872, XXVIII, LIX).
Соответственно, архонты могли рассчитывать на включение в новую – феодальную ‒ структуру. Эта интеграция приобрела широкий размах с начала XIV в. (или, по крайней мере, со второй половины XIII в.), что подтверждается рядом документов, содержащих информацию о наличии у ἄρχοντες рыцарского статуса (Documents sur le régime..., 1969, p. 77), а также их нахождения в составе высшей элиты княжества (Monumenta Peloponnesiaca, 1995, p. 75, № 33, 143). Однако каким образом происходило становление взаимосвязей благородных лиц из среды завоевателей и завоеванных на начальном этапе существования Ахейского княжества3?
Новое подданство в первой половине XIII в. было принято коллективно и массово архонтами Аркадии, Элиды, Арголиды, Цаконии, Патр, Андравиды и ее округи, Никли, Аркадии (Кипарисии), Корона, Лакедемона, Монемвасии, Акрокоринфа, Тайгета (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 1416–1419, 1435–1441, 1496–1500, 1631, 1706, 1789–1790, 2046–2048, 2059– 2060, 2066–2074, 2822–2823, 2936–2955, 3021–3029).
Сведения о переходе ἄρχοντες на сторону завоевателей мы находим в среднегреческих, старофранцузском и арагонском списках «Морейской хроники». Весьма примечательны термины, использовавшиеся авторами различных ее версий для описания официального признания франкской власти местной знатью. В Codex Havniensis (C.H.) для этого употреблялось типич- ное для Византии понятие προσκυνῶ («приносить проскинезу»), а также ὀμνύω («клясться») (Ibid., V. 1500, 1632).
Отметим, что терминология, используемая составителем греческого варианта «Морей-ской хроники», созданного более чем через столетие после завоевания, не всегда точно отражает реалии начала XIII в. [ Shawcross , 2009, p. 47]. Так, глагол προσκυνῶ, вместе со словами προσκύνημα и προσκύνησις встречающийся в тексте 61 раз, обозначал признание власти вышестоящего в иерархии лица нижестоящим4. При этом этническая принадлежность обеих сторон не имела значения, а само понятие могло использоваться для описания любой процедуры признания подданства (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 1014). Принесение полноценной вассальной клятвы по западному образцу могло именоваться в источнике ἀνθρωπέα (Ibid., V. 1646). Также для описания европейских феодальных договоров автор использовал и специфические понятия ὁμάτζιον, λιζία (Ibid., V. 8647–8650).
Во французской версии «Морейской хроники» переход архонтов под власть завоевателей описывался составителем словами rendire (сдаваться), aroter (приходить к соглашению), но не fealte, обозначавшим полноценную вассальную присягу (Chronique de Morée…, 1911, § 133). Употребление неконкретных понятий создателями старофранцузского и греческого списков объясняется тем, что тексты большинства договоров между ἄρχοντες и франкскими правителями Пелопоннеса не содержат сведений о необходимости несения военной службы со стороны благородных ромеев (табл. 1).
Таблица 1
Условия перехода архонтов во франкское подданство по материалам греческой версии «Морейской хроники»
|
Строки |
Регион / поселение |
Термин, описывающий принятие подданства |
Обязательства, возлагаемые на архонтов / декларируемые архонтами |
Обязательства франков |
|
1416–1419 |
Патры |
– |
(Сдача крепости) |
Сохранение домов (ὁσπίτιᾰ) ромеев |
|
1435–1441 |
Андравида |
προσκυνῶ (ἐπροσκύνησαν) |
Быть слугами (δοῦλοι) до смерти [ Aerts , Hokwerda , 2002, p. 120] |
Сохранение наследственных владений (ἰγονικά) ромеев |
|
1496–1500 |
Арголида |
ὀμνύω (ὠμόσασιν) |
Быть слугами (δοῦλοι) до смерти |
– |
|
1631 |
Элида |
προσκυνῶ (ἐπροσκύνησαν) |
– |
Защита наследственных владений (ἰγονικά) ромеев от разорения и убийств |
|
1639–1648 |
Элида и Аркадия |
προσκυνῶ (ἐπροσκυνοῦσαν) |
Принесение клятвы и несение военной службы архонто-пулами (τὴν ἀνθρωπέαν καὶ τὴν στρατείαν) |
– |
|
1706 |
Корон |
– |
(Сдача крепости) |
Сохранение наследственных владений (ἰγονικά) и домов (ὁσπίτιᾰ) ромеев |
Продолжение табл. 1
|
Строки |
Регион / поселение |
Термин, описывающий принятие подданства |
Обязательства, возлагаемые на архонтов / декларируемые архонтами |
Обязательства франков |
|
1790 |
Аркадия (Ки- парисия) |
ὅρκος* |
(Сдача крепости) |
Неприкосновенность (ἀφροντισία) ромеев при сдаче крепости |
|
2046–2048 |
Никли |
– |
(Сдача крепости) |
Сохранение наследственных владений (ἰγονικά) ромеев |
|
2059–2060 |
Лакедемон |
ὅρκος |
(Сдача крепости) |
Сохранение «проний» (πρόνοιες) и домов (ὁσπίτιᾰ) ромеев |
|
2066–2074 |
Цакония |
προσκυνῶ (προσκυνήσουν) |
Обещание считать ахейского князя владыкой (ἀφέντην νὰ τὸν ἔχουν) |
Обещание прекратить разорение земель архонтов |
|
2822–2823 |
Акрокоринф |
ὅρκος |
– |
Сохранение «проний» (πρόνοιες) ромеев |
|
2936–2955 |
Монемвасия |
προσκυνῶ (ἐπροσκύνησαν) |
Несение службы на кораблях (…νὰ μὴ χρεωστοῦσιν δούλεψιν ἄνευ τὰ πλευτικά τους) |
Сохранение наследственных владений (κληρονομίαι) архонтов, выдача (προνοιάζω) дополнительных зе мельных владений в Ватике, оплата службы на кораблях (τὴν ρόγαν τους καὶ τὴν φιλοτιμίαν τους), освобожде ние архонтов от всех видов повинности, кроме корабельной |
|
V. 3021– 3029 |
Тайгет |
προσκύνημα |
Несение военной службы во франкском войске (δουλείαν τῶν ἀρμάτων) |
Освобождение архонтов от всех видов повинностей, кроме военной службы (…συμβίβασιν ἐζήτησαν τοῦ νὰ ἔχουσιν ἐγκούσιον, τέλος οὔτε |
Окончание табл. 1
|
Строки |
Регион / поселение |
Термин, описывающий принятие подданства |
Обязательства, возлагаемые на архонтов / декларируемые архонтами |
Обязательства франков |
|
δεσποτικὸν νὰ ποιήσουσι ποτέ τους, καθὼς οὐδὲν τὸ ἔποικαν ποτέ τους οἱ γονεῖς τους) |
Примечания. Жирным шрифтом выделены сюжеты, содержащие информацию о военн-ной службе архонтов / архонтопулов. * В некоторых случаях при сдаче крепости принести клятву (ὅρκος), гарантирующую неприкосновенность жизни и собственности, просили ромеи.
Однако в трех отмеченных нами случаях указанная повинность все же налагалась на представителей местной элиты. Рассмотрим описание перехода под франкскую власть архонтов Элиды и Аркадии, уже подвергавшееся анализу Д. Якоби и иных исследователей [ Jacoby , 1967, p. 441–442]: «…ὅτι ὅλα τὰ ἀρχοντόπουλα, ὅπου εἴχασιν προνοῖες, νὰ ἔχουσιν ὁ κατὰ εἷς, πρὸς τὴν οὐσίαν ὅπου εἶχεν, τὴν ἀνθρωπέαν καὶ τὴν στρατείαν , τόσον νὰ τοῦ ἐνεμείνῃ…»5 (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 1644–1647).
В указанном сюжете содержится информация о наложении военной обязанности на некоторых представителей греческой знати. Если мы согласимся с мнением Д. Якоби и П. Гунари-диса о том, что термин ἀνθρωπέα является калькой со старофранцузского homage [ Jacoby , 1967, p. 440; Γουναρίδης , 1983, σ. 150], то служение ромеев было установлено на основании вассальной клятвы. Примечательно, что данная повинность возлагалась на архонтопулов – представителей низшей прослойки высокородных греков, или же клиентов архонтов [ Jacoby , 1989, p. 181–182]. Сам же договор был заключен именно с полноценными ἄρχοντες, принесшими проскинезу, что подтверждается сведениями из начала фрагмента (Κι ὡς τὸ ἤκουσαν οἱ ἄρχοντες… ἐπροσκυνοῦσαν ὅλοι6) (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 1639). Для них обязанность службы во франкском войске не регламентировалась.
Анализ рассматриваемого сюжета усложняется тем, что в аналогичном описании, содержащемся в тексте старофранцузской версии «Морейской хроники», архонты получали фьефы согласно своему статусу или рангу (selonc sa qualité) (Chronique de Morée…, 1911, § 106), но их участие в военных предприятиях франков специально не оговаривалось (The Old French Chronicle of Morea…, 2018, p. 59):
Таким образом, представляется невозможным однозначно подтвердить наличие обязанности несения службы архонтопулами. С одной стороны, мы не находим подобных сведений в старофранцузском тексте. С другой – не встречаем французского аналога самого термина ἀρχοντόπουλο. В том случае, если понятие ἀνθρωπέα, встречающееся в C.H. лишь один раз, обозначало принятие подданства в широком смысле, а не принесение оммажа, то речь могла идти об установлении официальных отношений между архонтами и архонтопулами в рамках феодальной системы. Однако если принесение клятвы верности клиентов архонтам выглядит логичным шагом, то обязательство одних греков служить другим, пусть и высокопоставленным, обосновать гораздо сложнее. Причиной этому является отсутствие в начале XIII в. необходимости у «полноценных» ἄρχοντες находиться во франкском войске и приводить с собой подчиненных.
Соответственно, предположение о том, что низшая прослойка ромейской знати (или вся ромейская знать) была интегрирована в феодальную систему Ахейского княжества на правах вассалов простого оммажа уже вскоре после начала завоевания, будет справедливо только в том случае, если сведения, содержащиеся в копенгагенском списке, являются точными. По нашему мнению, подтверждением раннему проникновению архонтов в ряды западноевропейских землевладельцев низшего ранга не является и фрагмент из текста арагонской хроники, ци- тировавшийся Д. Якоби [Jacoby, 1967, p. 469]: «…et los otros escuderos et nobles griegos fizieron omenage de plano»7 (Libro de los Féchos…, 1885, § 107).
В этом случае достоверность написанного вызывает сомнения по причине отсутствия подобной информации в более ранних греческой и старофранцузской версиях.
С большей долей вероятности можно утверждать об обязанности несения военной службы, наложенной франками на ἄρχοντες из племени милингов: «…προσκύνημα νὰ δίδουσιν, δουλείαν τῶν ἀρμάτων , ὥσπερ τὸ ἐπολεμούσασιν ὁμοίως τοῦ βασιλέως»8 (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 3028–3029).
Данный договор был схож с типичным вассально-ленным соглашением. Обязанность тайгетских архонтов по предоставлению франкам отрядов могла быть регламентирована вследствие того, что это занятие было для славян традиционным с византийских времен [ Ahrweiler , 1963, p. 249].
С 1248 г. поддержку войскам латинян должны были оказывать и влиятельные жители Монемвасии. В отличие от милингов, им предписывалось организовывать корабельное сопровождение: «…νὰ μὴ χρεωστοῦσιν δούλεψιν ἄνευ τὰ πλευτικά τους…»9 (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 2939).
Более того, наиболее знатным ἄρχοντες города давались дополнительные земли в Ватике (по мнению Д. Якоби, «на франкский манер») [ Jacoby , 1967, p. 470]: «…ἐπρόνοιασέ τους ἀλλὰ δὴ στὰ μέρη τῶν Βατίκων»10 (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 2955).
Факт регламентации «корабельного» сопровождения франков монемвасиотами следует считать весьма вероятным, так как ахейские князья нуждались во флоте, о чем свидетельствует их зависимость от венецианских судов во время осады той же Монемвасии (Chronique de Morée…, 1911, § 202).
В результате следует констатировать, что обязательства военной службы накладывались на архонтов отдельных территорий и поселений в случае следования традиции или крайней необходимости. За исключением весьма сложного для анализа сюжета о переходе во франкское подданство архонтопулов Аркадии и Элиды, процедура принятия ромеями новой власти описывается глаголами προσκυνῶ или ὀμνύω, не всегда подразумевающими под собой принесение оммажа. Соответственно, воинская повинность могла являться экстраординарной обязанностью, не регламентировавшейся вассальной клятвой.
Тем не менее обратим внимание на утверждение М. Бартузиса о том, что греческие архонты из Мореи все же участвовали в походе и последующем военном столкновении при Пела-гонии в 1259 г. [ Bartusis , 1997, p. 37]. При проведении анализа исследователь использовал материалы статьи Д. Геанокоплоса, а также ссылался на свидетельства Георгия Акрополита [ Geanakoplos , 1953, р. 123].
Именно в труде этого византийского историка мы встречаем следующее описание: «…ἦγε δὲ οὗτος ἀπειροπληθὲς τὸ ὁπλιτικόν· ἔκ τε γὰρ τοῦ Φραγγικοῦ γένους ἐτύγχανε καὶ ἐκ τῶν οἰκητόρων Ρωμαίων Ἀχαΐας τε καὶ Πελοποννήσου, ὧν οὗτος ἦρχεν· οἱ πλείους δὲ τοῦ τῶν Λακώνων ὑπῆρχον γένους»11 ( Ἀκροπολίτης , 1887, p. 1197).
Примечательно, что в данном фрагменте автор упоминает «тяжеловооруженное войско» (ὁπλιτικός), состоявшее из франков и ромеев. На основании этого утверждения можно предположить, что ἄρχοντες сопровождали Гийома II в его военной кампании. Однако Георгий Акро-полит никак не характеризует социальное происхождение греков12.
Отметим и то, что во время «войны трех Иоаннов» в войске предшественника Гийома Жоффруа II де Виллардуэна, пришедшего на выручку константинопольскому правителю Жану де Бриенну, имелись рыцари и лучники, вероятно, ромейского происхождения13 [Perry, 2013, p. 176]. Мы не находим упоминаний архонтов и в текстах трех версий «Морейской хроники». В сюжетах, посвященных подготовке к битве при Пелагонии, содержатся сведения лишь о «конных и пеших» воинах (Chronique de Morée…, 1911, § 261; The Chronicle of Morea…, 1904, V. 3514; Libro de los Féchos…, 1885, § 256). О наличии в сопровождении ахейского князя знатных ромеев не оставили сведений Марино Санудо Торчелло и Георгий Пахимер (Pachymérès, 1984, IV:31; Sanudo, 1873, p. 107). Безусловно, в поход могли выступить ἄρχοντες милингов, проживавшие на границе Лаконии, однако термин Ῥωμαῖοι, использованный византийским историком по отношению к греческим отрядам в войске Гийома, несколько противоречит данному утверждению.
Таким образом, первым подтверждением службы архонтов во франкском войске является фрагмент арагонской версии «Морейской хроники», содержащий рассказ о даровании в 1264 г. рыцарского достоинства нескольким грекам из отряда Жоффруа де Бриэля (Libro de los Féchos…, 1885, § 331). Однако уже в 1204–1262 гг. существовали иные формы взаимодействия между западными феодалами и местной знатью. Так, в период завоевания архонты неоднократно привлекались ахейскими правителями в качестве советников (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 1575–1580). Вероятно, они заключали с франками временные договоры о военной поддержке, а также участвовали в разделении земель Пелопоннеса (Ibid., V. 2089–2095). Данная деятельность ромейской элиты могла быть проявлением ее службы князю Мореи, так как в ряде соглашений с ним благородные ромеи именовали себя δοῦλοι («слуги») (Ibid., V. 1441, 1500, 2090). Несомненно, что автор оригинальной греческой версии «Морейской хроники» не являлся свидетелем данных событий [ Shawcross , 2009, p. 47], однако подобное поведение ἄρχοντες подтверждается франкскими и греческими современниками IV Крестового похода ( Valenciennes , 1872, § 672; Nicetae Choniatae Historia, 1975, p. 601) (табл. 2).
Таблица 2
Взаимодействие архонтов и франков в период завоевания Пелопоннеса по материалам греческой версии «Морейской хроники»
|
№ п/п |
Строки |
Функция архонтов |
|
1 |
1115–1127 |
Совещательная* Тактические советы императору перед битвой |
|
2 |
1330 |
Сопроводительная Сопровождение ахейского князя при встрече императора |
|
3 |
1577–1602 |
Совещательная Рассказ Жоффруа де Виллардуэну о специфике местности и незавоеванных крепостях |
|
4 |
1649–1650 |
Административная Участие в разделе пелопоннесских земель |
|
5 |
1744–1745 |
Совещательная (?) / сопроводительная/ временная военная поддержка (?) Роспуск архонтов, сопровождавших франкское войско |
|
6 |
1830–1835 |
Административная** Участие в разделе пелопоннесских земель |
|
7 |
2080–2095 |
Совещательная / временная военная поддержка (?) Рассказ Жоффруа де Виллардуэну о незавое-ванных крепостях. Вероятно, обещание помощи в их обретении в обмен на сохранение традиционных прав и веры |
|
Итого***: Совещательная: 3(4) Сопроводительная: 2 Административная: 1(2) Временная военная поддержка: 0(2) |
||
Примечания. * Событие происходило за пределами княжества – в Адрианополе. ** Вероятно, в хронике дублируется описание одного и того же события. *** Число в скобках обозна- чает гипотетическое количество свидетельств, подтверждающих исполнение архонтами той или иной функции
Вместе с тем, по нашему мнению, могла существовать и иная форма отношений между ἄρχοντες и западными феодалами. Проведем более подробный анализ уже упомянутого нами договора между монемвасиотами и Гийомом II. Соглашение с ахейским князем, с одной стороны, включало стандартную формулировку о сохранении «наследственных владений»: «Συμβίβασιν ἐζήτησαν του πρίγκιπα Γυλιάμου• νὰ εἶναι πάντοτες αὐτοῦ μὲ τὴν κληρονομίαν τους, Φράγκοι ἐγκουσάτοι ἑνομοῦ μετὰ τὰ πράγματά τους»14 (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 2936– 2938). С другой стороны, в нем оговаривались уже отмеченные обязанности знатных жителей города: «…νὰ μὴ χρεωστοῦσιν δούλεψιν ἄνευ τὰ πλευτικά τους, ἔχοντα γὰρ τὴν ρόγαν τους καὶ τὴν φιλοτιμίαν τους…»15 (Ibid., V. 2939–2940).
В результате представители трех влиятельнейших семей богатого порта пошли на соглашение с завоевателями в обмен на исполнение корабельной повинности, до того накладывавшейся на различных иноземцев правителями стран латинского востока [ Murray , 2008, p. 282].
Традиционность такой службы для монемвасиотов до IV Крестового похода и после византийской реставрации доказать сложно, о чем писал Д. Якоби [ Jacoby , 1967, p. 443–444]. По мнению Г. Лурье, знатные жители города в результате заключения договора стали наемниками. В подтверждение своей точки зрения исследователь ссылался на формулировку τὴν ρόγαν τους καὶ τὴν φιλοτιμίαν («содержание и жалование»), неоднократно встречающуюся в тексте источника (Crusaders as Conquerors…, 1964, p. 157).
Однако эта фраза в рассматриваемом случае может свидетельствовать и о заключении фьеф-рентного договора, до того распространенного в Северо-Восточной Франции и Сирии [ Cahen , 1940, р. 229]. Об этом свидетельствуют следующие факты:
-
1. Несмотря на всю специфичность, известные нам соглашения ἄρχοντες и завоевателей являлись именно клятвами, а не контрактами. Договор между знатью Монемвасии и Гийомом II де Виллардуэном, как и во всех остальных случаях, заключался на стандартных условиях защиты прав архонтов на их недвижимое имущество и не являлся наемническим. Плата же за несение корабельной повинности могла быть назначена по причине невозможности выдачи всем исполнявшим ее людям земельных наделов. Это, в частности, подтверждается тем, что щедрые подарки и дополнительные наделы в районе Ватики, как упоминалось ранее, были выданы только наиболее привилегированным представителям местной знати.
-
2. Сведения о типичном контракте с наемниками содержатся в следующем сюжете: «Οἱ Τοῦρκοι, ὅπου ἦσαν μετ᾿ αὐτόν, ὅπου ἦσαν μία χιλιάδα, ἐζήτησαν τὴν ρόγαν τους, ἕξι μηνῶν ἐλέγαν»16 (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 5099–5100).
-
3. Соглашения о несении корабельной службы заключались не только с греческими архонтами, но и с представителями Венецианской республики: «…νὰ τὰ ἔχῃ εἰς κληρονομίαν τὸ Κουμοῦ τῆς Βενετίας· κι ἀπαύτου γὰρ καὶ ἔμπροστεν κερδίζοντα τὰ κάστρη, νὰ δίδῃ πάντα ἡ Βενετία διὰ φύλαξιν τοῦ τόπου κάτεργα δύο καὶ μοναχά, νὰ ἔχουσι τὸν λαόν τους· κι ὁ πρίγκιπας νὰ ἐκπληρῇ τὴν ἔξοδόν τους ὅλην, τὸ λέγουσιν πανάτικα, ἄνευ τῆς ρόγας μόνης»18 (Ibid., V. 2783–2790).
На основании анализа данного фрагмента целесообразно констатировать, что в договоренности указывались срок исполнения обязанностей, а также общее количество нанятых людей. Перед заключением сделки обеими сторонами оговаривалась и фиксированная плата наемным войскам: «…ρῖξον ρόγαν κ᾿ ὑπέρπυρα καὶ δός τους ὅσον θέλουν»17 (Ibid., V. 4634).
Отметим, что ни одно из перечисленных условий на переговорах князя и ἄρχοντες не обсуждалось.
В данном контексте обязанность венецианцев по постоянному предоставлению князю двух галей была установлена именно в рамках феодального договора, подразумевавшего передачу прав наследственного владения на Корон и Модон, а также окружавшие их деревни рес-публике19. При этом правитель Мореи был обязан оплачивать все расходы команд кораблей, за исключением жалования.
Этническая принадлежность трех высокопоставленных архонтов Монемвасии также не может являться весомым аргументом против существования возможности получения ими прибыли с рентного фьефа. Так, фиксированные выплаты туркополам, не являвшиеся жалованием наемников, вероятно, имели хождение в Иерусалимском королевстве [ Murray , 2008, p. 278].
Вместе с тем мы не находим подтверждений рассмотренному договору во французской и арагонской версиях «Морейской хроники». В том случае, если греческое свидетельство является достоверным, то существует и вероятность того, что корабельная служба устанавливалась в обмен на дарование «проний» в Ватике для трех упомянутых в тексте источника семейств, которые должны были организовывать участие кораблей в походах князя без участия «меньших» архонтов. Оплата в таком случае производилась для погашения накладных расходов.
Тем не менее, если обязанность предоставления судов была возложена исключительно на представителей влиятельной знати, то дача земли могла являться подарком для обеспечения лояльности. Соответственно, их новые наделы не были держаниями на франкский манер и не «обменивались» на службу, являясь, по сути, «расширениями» уже имевшихся у «высших» ἄρχοντες вотчин. Это косвенно подтверждается использованием глагола ἐπρόνοιασέ для описания процедуры дарения, а не специфических терминов, обозначавших рыцарское владение (напр., φιὲ)20 (The Chronicle of Morea…, 1904, V. 2955). Корабельное сопровождение при этих условиях могло вознаграждаться в рамках фьеф-рентного договора.
Таким образом, следует констатировать, что в 1205–1262 гг.:
-
1. Наложение военной обязанности на архонтов происходило в том случае, если ее исполнение было для них традиционным (милинги) или необходимым завоевателям (монемва-сиоты). У нас нет прямых подтверждений тому, что служба влекла за собой «автоматическое» включение ἄρχοντες в группу вассалов «простого оммажа», так как переход в подданство ми-лингов и монемвасиотов описывался понятием προσκυνέω, не дающим четкого представления о форме договора. Достоверность свидетельства об установлении вассально-ленных связей между архонтопулами Аркадии и Элиды и франками представляется нам недостаточной. Причинами этому являются сложность определения значения термина ἀνθρωπέα, а также отсутствие аналогичной информации в старофранцузской и арагонской версиях «Морейской хроники». Невозможно подтвердить и пассаж из арагонского списка, повествующий о принесении знатными греками «простого оммажа».
-
2. Первые свидетельства участия ἄρχοντες в походах латинян и начала ограниченной интеграции знатных ромеев в рыцарское сословие приходятся на 1260-е гг. Их массовое участие в битве при Пелагонии 1259 г. не подтверждается ни одним источником. Соответственно, соглашения латинян с монемвасиотами и милингами являлись лишь единичными случаями привлечения местной знати на постоянную службу.
-
3. В рамках стандартных договоренностей о переходе под власть западных европейцев, в которых ἄρχοντες именовали себя слугами (δοῦλοι) франков, благородные греки исполняли консультативные и административные функции, а также, вероятно, могли оказывать князю временную военную поддержку. Соглашение монемвасиотов и Гийома II де Виллардуэна, в свою очередь, можно трактовать как подтверждение не только возникновения вассально-ленных отношений между завоевателями и завоеванными или распространения наемничества во франкской Морее, но и как заключения фьеф-рентного договора.
Список литературы Социальное положение архонтов в Ахейском княжестве (1205-1262)
- Белоруссова Т.Е. Греко-латинский фронтир на Пелопоннесе (вторая половина XIII-XIV в.): политическое и социокультурное взаимодействие: дис..канд. ист. наук. Екатеринбург, 2023. 325 с.
- МедведевИ.П. Мистра: очерки истории и культуры средневекового города. Л.: Наука, 1973. 163 с.
- Aerts W.J., Hokwerda H. Lexicon on the Chronicle of Morea. Groningen: Egbert Forsten, 2002. 564 p.
- Ahrweiler H. Les termes TaaKœvsç - TaaKoviai et leur évolution sémantique // Revue des études byzantines. 1963. Vol. 21. P. 243-249.
- Balard M. Les Latins en Orient: XIe-XVe siècle. Paris: Presses Universitaires de France, 2006. LXXVIII+452 p.
- Bartusis M.C. The Late Byzantine Army: Arms and Society, 1204-1453. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997. 438 p.
- Cahen C. La Syrie du nord à l'époque des croisades et la principauté franque d'Antioche. Damas: Presses de l'Ifpo, 1940. 768 p.
- Davies S., Davies J.L. Greeks, Venice and the Ottoman Empire // Hesperia Supplements. 2007. Vol. 40. P. 25-31.
- Gasparis Ch. Land and Landowners in the Greek Territories under Latin Dominion, 13th-14th centuries // A Companion to Latin Greece / ed. by N.I. Tsougarakis, P. Lock. Leiden; Boston: Brill, 2015. P. 73-113.
- Geanakoplos D.J. Greco-Latin Relations on the Eve of the Byzantine Restoration: The Battle of Pelago-nia - 1259 // Dumbarton Oaks Papers. 1953. Vol. 7. P. 99-141.
- Ilieva A. Frankish Morea, 1205-1262: Socio-cultural Interaction between the Franks and the Local Population. Athens: Historical Publications S.D. Basilopoulos, 1991. 307 p.
- Jacoby D. Les archontes grecs et la féodalité en Morée franque // Travaux et mémoires. 1967. T. II. P. 421-481.
- Jacoby D. Social Evolution in Latin Greece // A History of the Crusades / ed. by K.M. Setton. Madison: University of Wisconsin Press, 1989. Vol. 6. P. 175-221.
- Jacoby D. The Encounter of Two Societies: Western Conquerors and Byzantines in the Peloponnesus after the Fourth Crusade // The American Historical Review. 1973. Vol. 78, no. 4. P. 873-906.
- Kordoses M. Southern Greece under the Franks (1204-1262): A Study of the Greek Population and the Orthodox Church under the Frankish Dominion. Ioannina: University of Ioannina, 1987. 127 p.
- Murray A. The Origin of Money-Fiefs in the Latin Kingdom of Jerusalem // Mercenaries and Paid Men. Leiden; Boston: Brill, 2008. P. 275-286.
- Perry G. John of Brienne King of Jerusalem, Emperor of Constantinople, c.1175-1237. Cambridge: Cambridge University Press. 2013. 236 p.
- Shawcross T. The Chronicle of Morea: Historiography in Crusader Greece. Oxford: Oxford University Press, 2009. 340 p.