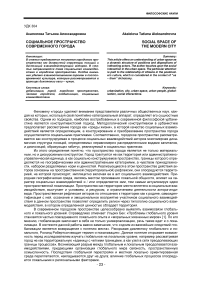Социальное пространство современного города
Автор: Акалелова Татьяна Александровна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 9, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается понимание городского пространства как динамичной структуры позиций и диспозиций взаимодействующих акторов. В статье затрагивается тема социального взаимодействия в городском пространстве. Особое внимание уделено взаимоотношениям горожан в постсовременной культуре, которые рассматривается в границах дихотомии свои - чужие.
Урбанизация, город, городское пространство, человек городской, глобализация, социальные взаимодействия
Короткий адрес: https://sciup.org/14936939
IDR: 14936939 | УДК: 304
Текст научной статьи Социальное пространство современного города
This article offers an understanding of urban space as a dynamic structure of positions and dispositions of interacting actors. The author touches upon the social interaction in the urban space. The particular attention is paid to the relationship of citizens in the postmodern culture, which is considered in the context of “us – them” dichotomy.
Феномену «город» уделяют внимание представители различных общественных наук, каждая из которых, используя свой понятийно-категориальный аппарат, определяет его сущностные свойства. Одним из подходов, наиболее востребованных в современной философской урбанистике является конструктивистский подход. Методологический конструктивизм в урбанистике предполагает рассмотрение города как «среды жизни», в которой качество социальных взаимодействий является определяющим, а конструирование и преобразование пространства города осуществляется социальными практиками. Соответственно, городское пространство рассматривается как конструируемая в процессе социальных взаимодействий акторов многомерная динамичная структура позиций, определяемых неравномерно распределенными видами капиталов, и диспозиций, образующих габитус, реализуемый в социальных практиках.
Из этого определения понятно, что пространство города является не только материальным, но и дискурсивным конструктом. Город трактуется не как территория или административноуправленческая единица, а как социально конструируемое пространство, границы которого определяются не географическими или административными категориями, а чувством принадлежности, набором разделяемых норм и ценностей. Реализующиеся в этом пространстве действия акторов основаны на пространственной (территориальной) рефлексии, они опосредуются территорией, на которой происходят, имплицитно включая ее в акт социального взаимодействия. Природная географическая среда, являясь местом проживания локальной общности, влияет на характер социальных взаимодействий и / или определяется ими, тем самым актуализируя идею пространственной локализации. Пространство как территория-место вплетено в социальные взаимодействия, выступает и условием, и ресурсом, и ограничением деятельности актора-индивида. Пространственная рефлексия акторов по отношению к территории как к родине, самоидентификация с ней, осознание и эмоциональное восприятие участников социального взаимодействия в данном пространстве позволяет определить регион через типологию социального взаимодействия, в котором определенной ценностью обладает территория.
В современном городском пространстве целесообразно выявлять взаимосвязи глобального и локального уровней. Справедливо отмечает Ульрих Бек: «Проблемы глобального уровня становятся частью повседневного локального опыта и «моральных жизненных миров» [1]. По его мнению, глобализация заключает в себя не только универсализацию, речь также идет и о локализации. В контексте данной работы важно замечание, что «одним из важнейших следствий глобализации является возвращение к понятию места». Раскрывая диалектику глобального и локального, Роланд Робертсон вводит термин «глокализация». Данное понятие открывает возможность перед исследователем изучать глобальное на локальном уровне, например рассматривая город не как территориальную «единицу с четкими границами, а как узел в сети преодолевающих границы процессов». Возникающий разрыв между глобальным и локальным преодолевается взаимодействиями, придающими организации глобального мира связность, пространственную осмысленность. Последствия глобальной перестройки и местная локально ориентированная среда переплетаются, накладываются друг на друга; влияние глобальных процессов опосредуется локальными и региональными факторами.
Социальные взаимодействия в городском пространстве исследуется в современной философии как процессы конституирования общности, формирование которой во многом определяется восприятием и позицией «Другого». Видение Другого определяет взаимодействия в границах дихотомии свои - чужие. Типизация такого взаимодействий происходит как по вертикали, так и по горизонтали и определяется социокультурными, темпоральными и пространственными характеристиками.
Другой представлен в работах сторонников символического интеракционизма, основатель которого Дж. Мид отмечал, что тождество значений актов взаимодействия позволяет каждому из его участников принимать на себя роль Другого, в том числе и «обобщенного другого», накопленный опыт предстает редуцированным таким образом, что выступает по отношению к ним в качестве общезначимого и общедоступного. Продолжая его идею, Г. Блумер подчеркивает значимость процесса оценивания позиций и последующего действия с учетом разных точек зрения и манифестации Другому о его предпочтительном действии.
Ю. Хабермас акцентирует внимание на персонифицированном Другом, присутствующем в коммуникативном акте, функциональность которого заключается в возможности реализовать имманентно присутствующую в коммуникации установку на консенсус. Моральные основания связности коммуницирующих акторов обеспечивают координацию их действий [2, с. 52], создавая симметричность взаимодействующих и взаимное признание.
В философии постмодернизма меняется суть Другого, поскольку в массовом обществе тиражирования идей и производства потребителей присутствует не Другой, а подобие однородного. Развивая идею Другого, Ж. Бодрийяр [3] постулирует, что коммуникация не является консенсусной средой, а представляет собой пространство коммуникационного насилия, в том числе порождаемого консенсусом и вынужденным общежитием, определяемым как запрет на инаковость. С. Жи-жек отмечает, что Другой в мультикультуралистском обществе существует как объект, лишенный своей субстанции «другости», признаваем таковым лишь в определенных границах норм и ценностей социальных групп, конструирующих идеологические рамки глобализирующегося мира [4, с. 27]. Однако непринятие Другого влечет исчезновение и личностной идентичности.
Позиции Ю. Хабермаса и Ж. Бодрийяра в трактовке Другого выявляют разброс взглядов, позволяющих констатировать сложность темы и неоднозначность коммуникационных процессов современности или, в трактовке Ж. Бодрийяра, постсовременности. Непризнание инаковости Другого не означает отказ от Другого, а лишь определяет его значение в системе взаимоотношений акторов в социальном пространстве, поскольку без Другого не может состояться как коммуникация, так и социальность, конструируемая коммуникациями. В коммуникации происходит уточнение позиции Другого в континууме свой - посторонний - чужой.
В средневековом городе чужой включался в воспроизводимые социальные взаимодействия, устойчивые отношения оставались неизменными на протяжении многих лет. Рост городов в эпоху модерна нарушил процессы самовоспроизводства социальных связей, став местом «массовой индустрии незнакомцев» [5, с. 26]. По мнению З. Баумана, города стали местом, где встречаются незнакомцы, причем, проживая рядом, взаимодействуя друг с другом, они остаются незнакомцами. Как отмечает З. Бауман, страхи перед неизвестностью накапливаются и разряжаются на определенной категории «чужаков», которые начинают служить олицетворением всего «незнакомого» [6, с. 43]. Одним из вариантов решения проблемы организации взаимодействия в социальном пространстве города являются кондоминиумы, обеспечивающие социальные связи горожан, занимающих относительно равные статусные позиции в социальном пространстве, достаточно близкую систему ценностей, потребностей. Е.А. Сергодеева пишет по этому поводу: «Рефлексирующая современность, стимулируя проявление субъектности и активной гражданственности, способствует формированию разных типов сообществ (коммюнити), активизирует механизмы коммуникации, прокладывая дорогу к пониманию Другого» [7, с. 48].
В пространстве кондоминиума создается атмосфера безопасности и защищенности, взаимодействие носит скорее солидарный, чем толерантный характер. Вместе с тем кондоминиумы с их огражденной территорией делят пространство города на «внутреннее» и «внешнее». Тем самым проблема организации социальных взаимодействий в едином городском пространстве не решается, жителям закрытых пространств сложнее моделировать взаимодействия с той частью горожан, которые проживают вне огороженной территории. Кондоминиумы расчленяют городское пространство на сегменты, в одних социальные взаимодействия носят солидарный характер, с акторами других сегментов выстраиваются толерантные или конфликтные отношения. Таким образом, городское пространство не является открытым и равнодоступным для социальных взаимодействий. Решение данной проблемы, по мнению З. Баумана, состоит в распространении открытых и гостеприимных общественных пространств, которые регулярно посещают все горожане и приезжие, сознательно охотно совместно используют.
Таким образом, социальные взаимодействия в городском пространстве могут быть ориентированы на солидарные, толерантные или конфликтные отношения. Данные типы отношений обладают свойством воспроизводства, обеспечиваемого градостроительной стратегией. Вместе с тем в современном информационном обществе использование гуманитарных технологий, символического и медийного капиталов может обеспечить стратегию восприятия Другого как «своего», лишенного свойств неопределенности, не вызывающего страха и ощущения неуверенности.
Ссылки:
-
1. Бек У. Космополитическое общество и его враги // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. VI. № 1 (21). С. 24–51.
-
2. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001. 419 с.
-
3. Бодрийяр Ж. Город и ненависть [Электронный ресурс]. URL: //http://www.ruthenia.ru/ (дата обращения: 30.05.2011).
-
4. Жижек С. Право на истину // 13 опытов о Ленине. М., 2003. 254 с.
-
5. Бауман З. Город страхов, город надежд // Logos. 2008. № 3. С. 24–53.
-
6. Сеннет Р. Капитализм в большом городе: глобализация, гибкость и безразличие // Logos. 2008. № 3. С. 95–107.
-
7. Сергодеева Е.А. Подозрение как феномен современной культуры // Философские науки. 2013. № 6. С. 40–49.