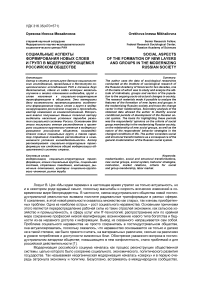Социальные аспекты формирования новых слоев и групп в модернизирующемся российском обществе
Автор: Орехова Инесса Михайловна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 9, 2020 года.
Бесплатный доступ
Автор в статье использует данные социологических исследований, проводимых в Институте социологических исследований РАН в течение двух десятилетий, одной из задач которых являлись изучение и анализ отношения индивидов, групп и слоев населения к социально-структурным трансформациям в обществе. Эти материалы дали возможность проанализировать особенности формирования новых слоев и групп в модернизирующемся российском социуме и проследить вектор изменений их взаимоотношений. Вторичный анализ полученных данных позволил автору выделить несколько условных периодов развития социальной системы России. Основанием для этого послужили мнения респондентов о критериях социально-группового членения в модернизирующемся российском обществе, взаимодействиях новых социальных групп, а также характер стратегий поведения респондентов в изменившихся условиях жизнедеятельности. Автор рассматривает социально-структурные трансформации как следствие общей модернизации общественной системы страны.
Модернизация, социально-структурные трансформации, новые социальные группы, социальная система, стратегии поведения, мотивация, рыночные отношения, критерии социально-группового членения, рынок труда
Короткий адрес: https://sciup.org/149133552
IDR: 149133552 | УДК: 316.35(470+571) | DOI: 10.24158/spp.2020.9.8
Текст научной статьи Социальные аспекты формирования новых слоев и групп в модернизирующемся российском обществе
Лозунг В. Цоя «Мы ждем перемен» в настоящее время утратил не только актуальность, но и в некотором роде здравый смысл, поскольку масштабы и скорость всяческих изменений в современном мире беспрецедентны. В частности, смена индустриального общества новой постиндустриальной реальностью вызвала поистине радикальные трансформации в разных сферах. К сожалению, в этой новой реальности оказалось множество как старых, так и вновь приобретенных проблем. Одна из наиболее острых – рост социального неравенства. Основными причинами этого являются перераспределение рабочей силы из таких отраслей экономики, как сельское хозяйство и промышленность, в сферу услуг или IT-технологий; распространение или по крайней мере сохранение профессий низкой квалификации; возникновение нового типа богатства и бедности из-за неравного доступа к информации. Вывод из сказанного напрашивается сам собой. Проблема социального неравенства не просто сохранилась в постиндустриальном обществе, она актуализировалась, поскольку оказалось, что неравенство основывается не только и далеко не в такой степени, как было принято считать, на материальных различиях, сколько на различиях в уровне потребления и доступности жизненных благ. Обострение указанного вопроса в постиндустриальном западном обществе, повышающего в нем конфликтность, стало проблемой и для российской действительности [1].
Модернизация российского социума началась как процесс реконструкции общественной системы, целью которого было ускорение социального, экономического, политического развития государства. Так называемая неорганическая модернизация началась «сверху» и в первую очередь затронула экономику и политику. Безусловно, встраиваясь в международное сообщество,
Россия в экономической, социальной, политической сферах должна была следовать определенным стратегиям и правилам. Однако в области экономики модернистские процессы в стране проходили в форме механического и скоропалительного перенесения западных экономических институтов в практически не готовую к такому развитию событий среду. Резкий переход к рынку, полная свобода ценообразования, непродуманная ваучерная приватизация - то, что назвали «шоковой терапией», - неизбежно привели к перекосам модернизации в целом и обострило общественно-политическую обстановку, поскольку социальное большинство не приняло эти преобразования. Необходимо отметить, что выбор способов модернизации в современной России во многом основывается на особой, по сути доминирующей, роли государства в общественно-экономической жизни страны [2].
Таков общий модернистский фон, при котором складывалась современная социальная система российского общества.
Модернизация - это макропроцесс перехода от традиционного общества к модерновому
-
[3] . Одной из его составляющих является социальная модернизация - формирование открытого социума, в котором созданы требуемые условия для становления и развития соответствующей социальной системы (структуры). Необходимым условием развития модернистского открытого общества выступает наличие в нем рыночных отношений, которые, в свою очередь, невозможны без частной собственности, свободы предпринимательства, конкуренции и свободного ценообразования. Поведенческие стратегии индивидов в различных сферах жизнедеятельности такого общества обусловлены ролевым характером их взаимодействия, т. е. их социальным статусом и социальными функциями.
Начиная с 1998 г. исследования под общим названием «Социально-пространственная дифференциация российского общества», затрагивающие проблемы социально-классовых отношений, проводились в Иркутске (1998), Тюмени (2001), Нижнем Новгороде (2004), Краснодаре (2008), Новосибирске (2008), Бурятии (2014), Пензе (2015). Выборка - территориальная многоступенчатая, с применением квот - была построена на основе следующих переменных: половозрастной состав, образовательный уровень, сектор занятости, социально-профессиональная группа, основное занятие. Объем выборки рассчитывался исходя из требуемой точности ±3 % (в процентах, с доверительным интервалом в 95 %, р = 0,5). Численность выборочной совокупности определялась для каждого региона исследования пропорционально количеству населения по материалам Росстата. Методом получения данных выступал анкетный опрос. Инструментарий состоял из нескольких тематических блоков. Одной из научных задач социологических исследований являлись изучение и анализ представлений индивидов, групп и слоев населения о стратификационной модели российского общества, их отношения к происходящим в нем социально-структурным изменениям. Для этой цели респондентам был задан вопрос о факторах, которые, по их мнению, определяют деление людей на различные социальные группы. Опрошенным предлагался набор альтернатив, каждую из которых они должны были оценить по степени значимости от 1 до 5, где 1 - влияет совсем незначительно, 5 - влияет значительно. Методика исследований давала возможность отследить вектор трансформации мнений и представлений респондентов об изучаемых процессах в течение двух десятилетий.
Вторичный анализ полученных данных позволил выявить несколько условных периодов развития современной социальной системы России. Основанием для их выделения послужили мнения опрошенных о критериях социально-группового членения в модернизирующемся российском обществе, их представления о взаимоотношениях новых социальных групп и их стратегии поведения в изменившихся - часто кризисных - условиях жизнедеятельности.
Первый период связан с модернизацией в сфере труда и занятости. В частности, реструктуризация государственной собственности затронула не только трудовые отношения, но и положение социальных групп и слоев, их функции и, как правило, отношения друг к другу. Вместе с частным сектором в экономике возникла социальная поляризация на рынке труда и сформировались две социальные группы - собственников и наемных работников. В советской экономической системе, где де-юре собственником считался народ (не конкретный человек, а именно абстрактный «народ»), а де-факто - государство, наемными работниками было все занятое население страны. Однако такой социальной группы - «наемные работники» - не существовало. Поэтому для современной отечественной реальности «наемные работники» - это новая социальная группа наравне с группой «собственники». Новые группы, возникшие в процессе модернизации, неизбежно должны были вступить в отношения друг с другом. На ранней стадии модернизации их характер в значительной степени был обусловлен методами преобразований, отторгаемыми общественным большинством. Уверовав, что свободный рынок - саморегулирующийся механизм, реформаторы посчитали это достаточным основанием для механического введения рыночных отношений в различные области жизнедеятельности. В результате на первый план вышли недостатки рынка, которые наряду с несомненными достоинствами есть у любой системы. В сфере производства и потребления проявился огромный перекос в отношении «спрос – предложение» в сторону предложения, поскольку спрос в условиях практически экономической разрухи невозможно было подкрепить материально. Выяснилось, что в секторе труда и занятости рынок не гарантирует реализации права на труд и полную занятость населения, что способствовало повышению уровня безработицы в стране. Кроме того, рыночные отношения в трудовой сфере и при благополучном состоянии экономики приводят к существенной дифференциации доходов работников и, как следствие, уровней жизни населения. Социальная группа собственников воспринималась большинством населения как еще один «недостаток» рыночных отношений. Материалы социологических исследований 1998–2001 гг. полностью отразили эту негативную общественную позицию.
Инструментарий исследований предусматривал возможность определить и проанализировать мнения респондентов о критериях социально-группового членения общества и взаимоотношениях новых социальных групп. По степени значимости социальные критерии опрошенные выстроили следующим образом, %:
-
– властные полномочия – 90,8;
-
– значительные денежные средства – 90,5;
-
– хорошее образование – 30,3;
-
– высококвалифицированная профессия – 30,2;
-
– талант, способности – 30,0.
По мнению респондентов, социальная структура России конца 1990-х и начала 2000-х гг. представляла собой уродливую, связывающую социальное деление с конфликтностью интересов и порождающую эти общественные конфликты систему. Совокупный анализ данных исследований позволил сделать вывод, что опрошенные, выстраивая иерархию социальных критериев, вкладывают в понятия «власть» и «деньги», с научной точки зрения совершенно нейтральные, отрицательный смысл. Большинство респондентов считают, что законным путем добиться власти и денег, необходимых для причисления себя к группам, находящимся на вершине социальной иерархии, невозможно. Более половины (55,3 %) участников исследований 1998–2001 гг. уверены в криминальном характере приобретения этих «атрибутов» высокого социального положения. Такие факторы, как образование, профессия или способности человека, считают значимыми социальными критериями менее трети опрошенных. Между тем хорошее образование или высококвалифицированная профессия даже на раннем этапе модернистских процессов в России являлись наиболее доступными для существенной части населения способами занять место в социальной иерархии или продвинуться в ней. Однако в данном случае мнение респондентов о важности социальных критериев полностью отражало социальную отечественную реальность, когда хорошее образование, профессия высокой квалификации, способности не являлись конкурентоспособными факторами на рынке труда и в социальной системе страны.
Представления опрошенных о взаимоотношениях новых социальных групп в отличие от их точки зрения по поводу социальных критериев деления общества оказались менее определенными. Около трети участников исследований 1998–2001 гг. не смогли высказать своего мнения по указанному вопросу. При этом треть респондентов считала, что взаимоотношения между группами собственников и наемных работников являются нейтральными или безразличными, а четверть полагала, что они конфликтные. Лишь 10 % отмечали сотрудничество между этими группами. Соотношение мнений «сотрудничество – конфликтность – нейтралитет» двух третей определившихся опрошенных составило 1,0 : 2,5 : 3,0.
Поведенческие стратегии индивидов на начальной стадии модернизации носили в основном адаптивный характер. Сама адаптивная стратегия поведения во многом зависит от мотивационной позиции человека. Активная позиция воплощается в стремлении противостоять негативным воздействиям и, насколько возможно, приспосабливаться к сложившимся условиям жизнедеятельности. В 1990-е гг. большая часть населения страны существовала в режиме выживания. Именно в это время появились так называемые челноки – значительная по численности группа граждан, на свой страх и риск начавшая заниматься поставками потребительских товаров из-за границы, главным образом из Турции, Китая, Польши. По оценкам экспертов, количество челноков и их помощников (водителей, продавцов и т. п.) к концу 1990-х гг. составляло 30 млн чел., или 40 % трудоспособного населения России. Безусловно, с точки зрения поведенческих стратегий эта группа представляла собой активную часть населения, сумевшую в непростых жизненных обстоятельствах решить свои материальные проблемы. Социально-профессиональный состав челноков был очень широким. Значительную их часть составляли те, кого в Советском Союзе называли интеллигенцией: инженерно-технические, научно-педагогические, медицинские работники. Люди с высоким уровнем образования, определенными жизненными установками, приоритетами и ценностями вынуждены были ввиду обстоятельств и безысходности ситуации заниматься чуждым им мелким бизнесом, к тому же в некоторых случаях криминальным. Для этого, кроме прочего, им пришлось опуститься на несколько ступеней ниже в социальной иерархии. По сути, в социальной системе страны они превратились в маргиналов. Их положение, помимо потери привычного образа жизни, связано с незавершенностью перемещения между двумя социальными группами. Положение челнока для подавляющего большинства являлось вынужденным, временным на пути достижения более высоких целей как в материальном отношении, так и в социальном. В рассматриваемый временной промежуток челноки достигли некоторого материального благополучия. В социальной российской системе они остановились на границе, оставшись в положении неопределенности: реальное место в социальной иерархии их категорически не устраивало, достичь желаемого социального статуса было невозможно, вернуться в прежнюю социальную группу они не могли в силу объективных причин. Дальнейшие жизненные пути челноков 1990-х гг., в соответствии с материалами их биографических интервью, проведенных в 2005–2006 гг., впервые были проанализированы Е.Н. Ядовой [4].
Оценка челноков и их деятельности в научном сообществе неоднозначна – она располагается в диапазоне от крайне отрицательной до безусловно положительной. Однако все эксперты сходятся во мнении, что челноки были наиболее активной частью трудоспособного населения страны в 1990-е гг. Тогда как, по данным социологических исследований, более трети респондентов руководствовались пассивной поведенческой стратегией. По их мнению, экономическая и общественно-политическая ситуация в стране определила невозможность достичь желаемых результатов в различных сферах жизнедеятельности: социальной, профессиональной, материальной. Поэтому свое отношение к жизни они охарактеризовали следующим утверждением: «просто живу, как живется». Такие оценки своей жизненной позиции характерны для респондентов вне зависимости от их социального положения, имеющегося у них уровня образования и профессии.
Если попытаться одним словом охарактеризовать реальную ситуацию в России 1990-х гг., наиболее подходящим будет термин «неопределенность». В числе прочего это касается и социальной системы страны. Тем не менее на этом фоне всеобщей неопределенности в социальной системе России появились две уже упомянутые реальные основополагающие группы – «собственники» и «наемные работники». Данный вывод подтвержден результатами социологических исследований: для большинства респондентов в опросах 1998–2001 гг. новые группы в российском обществе – реальные категории действительности, которые сформировались в процессе социальной поляризации на рынке труда.
Второй период развития социальной системы страны уже базировался на парадигме: собственники и наемные работники – это объективная реальность. Исследования 2008–2010 гг. зафиксировали наметившееся изменение общественного мнения в отношении критериев социально-группового членения и взаимоотношений социальных групп. Эти трансформации, хотя и медленно, проявились и на когнитивном уровне, и в практической деятельности, и в целом в жизненных стратегиях поведения респондентов.
По мнению опрошенных, характер взаимоотношений новых социальных групп стал менее конфликтным. Соотношение «сотрудничество – конфликтность» изменилось незначительно – 1 : 2 (в ранних исследованиях оно составляло 1,0 : 2,5). Однако почти вдвое – до 59,3 % – увеличилось число тех, кто оценивает эти взаимоотношения как нейтральные. Резонно предположить, что подобное удвоение произошло в основном за счет тех, кто в более ранних опросах еще не имел определенного мнения, таких среди респондентов было около трети. Очевидно также, что данные изменения носят скорее положительный характер, поскольку большая степень определенности в общественном мнении, даже, как в нашем случае, не носящая явно выраженный позитивный оттенок, является стабилизирующим фактором в обществе.
Безусловными лидерами среди критериев социально-группового членения остались власть и деньги. По-прежнему около 80 % респондентов считают властные полномочия и значительные денежные средства основными атрибутами, позволяющими подняться на высокую ступень в социальной иерархии. Однако в отличие от результатов ранних исследований здесь мнение опрошенных не носит резко отрицательного оценочного характера – это просто констатация факта. Респонденты стали осознавать, что общественное неравенство – объективная реальность. Как одна из особенностей современного общества неравенство в той или иной степени остается всегда, но также всегда существуют сглаживающие его факторы. На момент проведения исследований образование и профессия стали именно такими факторами. Более 50 % участников опроса отметили хорошее образование и востребованные на рынке труда профессии высокой квалификации в качестве важных и необходимых условий социально-профессионального становления и продвижения. Значение этих критериев социально-группового членения возросло более чем в 1,5 раза по сравнению с данными ранних исследований. Стоит отметить, что респонденты особо выделили такой критерий, как качественное образование, поскольку в сложившейся к тому времени экономической ситуации именно уровень профессионального образования становится одним из наиболее актуальных адаптационных факторов. Он дает работнику возможность приобрести востребованную профессию, переучиться, получить новые профессиональные навыки, поменять место работы и профессию в соответствии с потребностями рынка труда.
Характерной особенностью этого периода социальной модернизации можно считать окончательное оформление социальных слоев, четкое определение их границ и критериев выделения, причем не только фактическое, но и с точки зрения социальной самоидентификации индивидов. Именно в этом социальном пространстве формировался российский средний класс, отличающийся определенным типом экономического поведения, включающим в себя высокопрофессиональные навыки трудовой деятельности, ориентацию на престиж этой деятельности, высокий уровень образования и адаптивный потенциал [5].
Становление социальных статусов, в частности статуса среднего класса, на этом этапе модернизации российского общества самым непосредственным образом было связано с возникновением групп экономически и социально активного населения нового типа. В исследованиях 2008–2010 гг. была выявлена и проанализирована одна из них – группа респондентов с наиболее активной мотивационной позицией и поведенческими стратегиями: молодые профессионалы в возрасте до 35 лет, имеющие высокий уровень образования и востребованную на рынке труда профессию. Их должность, как правило, позволяла занять высокое положение в социальной иерархии. Их оценки и мнения строились на постулате, что успех в работе и жизни основан на личной инициативе человека и его стараниях. Они считали, что возможность обеспечить себе достойное место в жизни, в том числе в социальном отношении, в большой степени зависит от них самих – желания учиться, напряженно работать, повышать квалификацию.
Еще одной группой наиболее активного населения в составе среднего класса, безусловно, стали предприниматели малого и среднего звеньев. Предпринимательская деятельность изначально была выбрана большинством из них как адаптационная мера в период нестабильности на рынке труда. Например, часть предпринимателей начинали деятельность в качестве челноков, часть были безработными. Как мы отмечали в более раннем исследовании, в рассматриваемый период произошли значительные изменения в причинах выбора предпринимательской деятельности респондентами. Прежде всего потому, что трансформировался возрастной состав группы. Предпринимательством стали заниматься молодые люди: доля предпринимателей 25–30 лет увеличилась почти вдвое и приблизилась к 40 %. Экономическая нестабильность или по крайней мере наиболее острые ее проявления не затронули период их вступления в трудовую жизнь. Поэтому предпринимательство – это их осознанный выбор, в какой-то степени жизненная потребность, а не вынужденная необходимость. Главными для них в выборе профессиональной деятельности стали ценности труда. Это прежде всего интересная и творческая работа (отметили более 40 % опрошенных), ее престижность и общественная значимость (около 40 %). Еще около 40 % выделили желание хорошо заработать как причину выбора предпринимательской деятельности [6] ∗ .
Критериями отнесения к среднему классу являются следующие характеристики индивида: «образование (наличие как минимум среднего специального образования), социально-профессиональный статус (нефизический характер труда или предпринимательская деятельность), определенный уровень благосостояния (не ниже медианного значения в данном регионе) и самооценка человеком своего положения в обществе» [7, с. 116]. С формальной стороны обе группы (профессионалы и предприниматели) вполне отвечают этим требованиям. Их образовательный уровень, социально-профессиональная деятельность и материальное положение укладываются в четкие границы того социального слоя – среднего класса, к которому их можно отнести. Социальная самооценка профессионалов и предпринимателей практически полностью совпадает с их реальным социальным положением. В то время как в ранних исследованиях оценка респондентами своего положения в обществе почти всегда оказывалась выше реального статуса. На наш взгляд, адекватная социальная самооценка наглядно свидетельствует о формальном становлении среднего класса как реальной социальной группы российского общества. Такая социальная самоидентификация, кроме прочего, служит залогом стабильности их положения в социальной структуре.
Осознанная адекватная оценка респондентами своего социального положения, места в социальной иерархии, выявленная в поздних исследованиях, является одной из важнейших характеристик реальных социально-структурных изменений.
Одной из особенностей второго этапа развития отечественной социальной системы стало то, что он пришелся на период мирового экономического кризиса. Поскольку модернистские процессы
∗ Методика исследований предполагала несколько вариантов ответа на вопрос о причинах выбора этого вида деятельности.
в различных сферах жизнедеятельности российского общества начинались и продолжали развиваться в рамках общемировых процессов, наша страна столкнулась с глобальными проблемами общего для всех социально-экономического пространства. Что бы ни говорили отдельные ученые, политологи, общественные деятели об «особом пути» и «самобытности» России, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» (В.И. Ленин). Это истина, проверенная практикой. Неблагоприятные экономические условия отразились и на российском рынке труда. Поэтому часть занятого населения вынуждена была вернуться к адаптивным поведенческим стратегиям. В структуре рыночных отношений появилась самозанятость как адаптационный ресурс в условиях кризиса.
С момента появления на отечественном рынке труда самозанятые оказались на специфическом месте: они не имели никаких отношений с государством, т. е. не забирали у него ресурсы и не платили ему налоги * . В анализируемый период самозанятые были практически самой активной частью трудоспособного населения страны. Активная мотивационная позиция, подкрепленная соответствующими стратегиями поведения, позволила им занять ниши в различных секторах профессионально-трудовой деятельности. Самозанятые вовсе не одни репетиторы, строители, курьеры, как долго считали в государственных органах различного уровня. В этом роде деятельности есть много сервисов, небольших предприятий, IT-компаний, связанных, как сейчас принято говорить, с цифровизацией в разных областях жизнедеятельности. Формально отнести самозанятых к индивидуальным предпринимателям мешают их неофициальный статус и отсутствие у них наемных работников.
На втором этапе социальной модернизации виток спирали оказался в неблагоприятной точке развития, похожей на ситуацию в стране начала модернистских преобразований. Причины неблагоприятных обстоятельств были другими - мировой экономический кризис. Однако способы его преодоления наиболее активная часть трудоспособного населения выбрала уже проверенные на деле, но на другом качественном уровне. Широкий спектр деятельности, осуществляемой осознанно и часто соответствующей профессионально-образовательному уровню индивида, - главное качественное отличие самозанятых от челноков - группы, появившейся на рынке труда в первый период социальной модернизации. Широкий социально-профессиональный состав обеих групп - их главное сходство и в то же время основной источник проблемы их социальной идентификации.
Социальная идентификация - это определение места индивида в социальной структуре, а следовательно, и его роли в общественном развитии. Если общая тенденция социально-структурных изменений в рассматриваемый период характеризуется в числе прочего четким определением границ отдельных социальных слоев, группа самозанятых как социальное образование, наоборот, отличается размытостью этих границ. Диапазон образовательных уровней, профессионально-квалификационных статусов, различный характер труда и уровень благосостояния индивидов, составляющих эту группу, не позволяет даже приблизительно выделить единые критерии для всех ее членов. Значит, невозможно представить группу самозанятых как единое социально-структурное целое.
Определить социальную принадлежность самозанятых можно по-разному, например выделяя отдельные критерии социально-группового членения. Обладание такими характеристиками, как высокий уровень образования и дохода, нефизический характер труда, позволяет представительную часть самозанятых отнести к среднему классу. Поставив во главу угла самоидентификацию, также можно с достаточной степенью достоверности считать отдельных ее членов представителями определенного социального слоя и устанавливать их место в социальной иерархии. Эти способы позволяют выяснить социальную принадлежность какой-то части самозанятых или отдельных индивидов, но не всей группы как единого целого. Между тем многие эксперты предлагают отнести их к прекариату - новой группе в социальном пространстве России. В этом случае самозанятые закрепляются в отечественной социальной системе как единое социально-структурное целое. Однако такая оценка специалистов основана на юридической неопределенности статуса группы самозанятых, ее экономической нестабильности на рынке труда. Ведь главным критерием выделения такого социального слоя, как прекариат, послужила как раз его экономическая нестабильность [8].
Появление прекариата - нового социального слоя в структуре российского общества -можно считать началом третьего периода развития отечественной социальной системы. В этот период частная собственность, рынок труда, собственники и наемные работники стали неотъемлемыми частями объективной реальности для большинства населения страны. Данные понятия вошли в их жизненное пространство. Чтобы достичь реальных, приемлемых для себя результа- тов в разных сферах жизнедеятельности, индивид должен учитывать эти реалии. В ранних исследованиях оценки людей часто были продиктованы эмоциями. В опросах последних лет фиксируются осмысленная взвешенная позиция респондентов по отношению к различным общественным явлениям и соответствующие этой мотивационной позиции стратегии поведения. Все перечисленное, безусловно, является стабилизирующими факторами в обществе.
Однако в то же время в российском социуме проявилась другая тенденция. Вместе с группой «прекариат» в социальной системе страны укрепилось состояние нестабильности: социальных статусов, социальных слоев, социальной системы в целом. На начальном этапе модернизации неустойчивое экономическое положение России было основанием практически всеобщей социальной неопределенности. Парадоксально, что на современном этапе модернизации, при положительной динамике экономического развития и уже достигнутой определенной экономической стабильности в стране, главной характеристикой новой социальной группы – прекариата – выступает ее крайне нестабильное положение в системе занятости на рынке труда.
Необходимо отметить, что возврат к социальной неустойчивости отнюдь не является исключительно российской тенденцией общественного развития. Она в наибольшей степени присуща западным социумам. Андеркласс, NEET и прекариат в социальной структуре современных экономически развитых западных обществ – новые социальные слои, основанием которых является экономическая нестабильность. Присутствуют ли такие группы, как андеркласс и NEET в отечественном общественном пространстве? Если да, то какое место они занимают в социальной структуре? Данные вопросы пока остаются без ответа, поскольку российскими исследователями эти группы еще не «выявлены» и не проанализированы.
В настоящее время в стране существует экономически нестабильная группа самозанятых работников, присутствующая только на нашем рынке труда. Эта группа, как отмечено ранее, обратила на себя пристальное внимание ученых и государственных деятелей на втором этапе социальной модернизации и не только сохранила, но и упрочила свое место в социальной системе на следующем этапе ее развития. Сегодня самозанятых работников, по оценкам экспертов, в стране насчитывается от 16 до 25 млн человек. Даже если исходить из минимальной оценки их численности, доля самозанятых в экономически активном населении составит более 16 %. Кроме того, количество и, следовательно, доля самозанятых на отечественном рынке труда постоянно возрастают. Специалисты, считающие новый экономический кризис неизбежным, советуют правительству не проводить никаких экспериментов, направленных на ущемление прав самозанятых, не ломать их привычный образ жизни и трудовой деятельности. Эти исследователи высоко оценивают вклад таких работников в российский ВВП: тот факт, что они в силу своего положения на рынке труда работают непосредственно на внутренний рынок страны и не связаны с глобализацией и мировым хозяйством, позволяет им сглаживать кризисные последствия для государства. Однако на правительственном уровне сочли, что неформальный характер деятельности такого значительного числа работников вступил в противоречие с установившимися правилами и стабилизирующейся ситуацией в экономике. Это сделало положение самозанятых почти критическим с точки зрения их экономической стабильности и социальных рисков. Поэтому на государственном уровне принят ряд решений, чтобы ввести деятельность самозанятых в формальные границы и тем самым сгладить их экономическую нестабильность и уменьшить возможные социальные риски.
Исследователи в западных обществах также рассматривают депривированные социальные слои как источники различных опасностей для общественного развития. Они считают, что социальное самочувствие индивидов в нестабильных группах диктует им стратегию поведения, несущую угрозу общественной стабильности. Поведенческие стратегии членов таких групп в силу антиобщественной направленности усиливают социальную дисфункцию обществ.
Все сказанное позволяет сделать следующий вывод. Если результаты модернизации в экономической, а в большей степени в технологической сфере можно расположить в диапазоне «положительный – отрицательный», то в социальной области такой оценочный подход совершенно невозможен. Нигде в мире нет «хорошей» или «плохой» социальной структуры. На наш взгляд, социальную структуру можно определять с точки зрения ее адекватности времени и объективной реальности.
Ссылки:
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович
Список литературы Социальные аспекты формирования новых слоев и групп в модернизирующемся российском обществе
- Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. Прекариат как новая группа наемных работников // Уровень жизни населения регионов России. 2015. № 1 (195). С. 47-57. DOI: 10.12737/10248
- Мареева С.В. Социальные неравенства и социальная структура современной России в восприятии населения // Вестник Института социологии. 2018. Т. 9, № 3 (26). C. 101-120. DOI: 10.19181/vis.2018.26.3.527
- Тихонова Н.Е. Динамика социально-экономического положения массовых слоев населения России: 2003-2018 гг. // Социологическая наука и социальная практика. 2018. Т. 6, № 3 (23). С. 7-25. DOI: 10.19181/snsp.2018.6.3.6000
- Жвитиашвили А.Ш. Проблемы модернизации российского общества: методологический аспект // Теория и практика общественного развития. 2018. № 7 (125). С. 36-43. DOI: 10.24158/tipor.2018.7.5
- Тихонова Н.Е. Динамика социокультурной модернизации в России // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 1. С. 24-34
- Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. М., 2012. 526 с.
- Гавров С.Н. Модернизация // Социокультурная антропология: история, теория и методология: энциклопедический словарь / отв. ред. Ю. Резник. М.; Киров, 2012. С. 821-830
- Ядова Е.Н. Предпринимательство в России 90-х гг. Челночество как социальный ресурс трансформационного периода. Саарбрюккен, 2011. 216 с
- Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований / под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М., 2016. 364 с
- Орехова И.М. Место занятых не по найму на российском рынке труда // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 10 (54). С. 41-46. DOI: 10.24158/spp.2018.10.6
- Наемный работник в современной России: монография / отв. ред. З.Т. Голенкова. М., 2015. 362 с
- Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. Новые социальные группы в современных стратификационных системах глобального общества // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 3. С. 5-15
- Жвитиашвили А.Ш. Проблемы модернизации российского общества: методологический аспект // Теория и практика общественного развития. 2018. № 7 (125). С. 36-43. DOI: 10.24158/tipor.2018.7.5