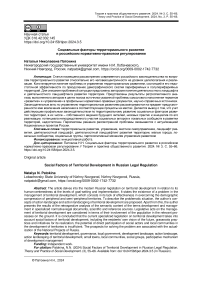Социальные факторы территориального развития в российском нормативно-правовом регулировании
Автор: Патокина Н.Н.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению современного российского законодательства по вопросам территориального развития относительно его человекоцентричности на уровнях целеполагания и реализации. Констатируется наличие проблемы в управлении территориальным развитием, состоящей в его недостаточной эффективности по преодолению демографического сжатия периферийных и полупериферийных территорий. Для описания проблемной ситуации предложены авторские понятия деятельностного ландшафта и деятельностного ландшафтинга развития территории. Представлены результаты ретроспективного анализа, выполненного автором в целях поиска источника указанной проблемы смыслового наполнения терминов «развитие» и «управление» в профильных нормативно-правовых документах, научно-справочных источниках. Законодательные акты по управлению территориальным развитием рассматриваются на предмет предусмотренности ими вовлечения населения в соответствующие процессы на местах. Делается вывод о том, что учет действующим профильным законодательством по территориальному развитию социальных факторов развития территорий, в их числе - собственного видения будущего жителей, низовых практик и инициатив по его реализации, потенциала непосредственного участия социальных акторов и локальных сообществ в развитии территорий, недостаточен. Перспективы решения рассмотренной проблемы связываются с актуализацией Национальных проектов России.
Территориальное развитие, управление, местное самоуправление, ландшафт развития, деятельностный ландшафт, деятельностный ландшафтинг развития территории, малые города, локальные сообщества, социальные группы, партисипативный механизм управления развитием
Короткий адрес: https://sciup.org/149145281
IDR: 149145281 | УДК: 316.42:332.145 | DOI: 10.24158/tipor.2024.3.5
Текст научной статьи Социальные факторы территориального развития в российском нормативно-правовом регулировании
Нижний Новгород, Россия, ,
Развитие любой территории связано с ее географическими, природными, социальными, экономическими, институциональными и иными факторами. Естественное движение природных процессов сочетается с действием таких факторов, как целенаправленные действия людей, организаций, институтов. Характер развития, его перспективы, достижимые и достигаемые результаты определяются природными условиями, экономическим и социальным потенциалом территории, деятельностью людей, их целеполаганием, стратегиями и практиками по реализации целей.
Значительная территориальная протяженность, географическое расположение, неравномерность распределения природных ресурсов объективно определяют многообразие регионов России и их социально-экономических особенностей. Неравномерность пространственного развития России (Зубаревич, 2014), возникающие на практике проблемы управления территориями и эффективности установленных критериев оценки этого процесса оставляют тему территориального развития актуальной и привлекательной для исследователей.
Традиционно пространственное и территориальное развитие исследуется в концепциях и подходах географического и экономического знания и их специализированных направлений. Вместе с тем, десятилетия постсоветской трансформации России стали не только годами впечатляющего становления новой, по существу, страны и новой парадигмы движения в будущее, но и, закономерно, проявления новых проблем развития. Некоторые из них оказались предсказуемыми, в то время как другие – труднообъяснимыми в пределах традиционных исследовательских и объяснительных подходов. К числу последних относится возникновение внутренних миграционных потоков: переток населения из «провинции» в «центр», из поселков – в города, из райцентров – в областные центры, демографическое сжатие обширных периферийных и полупериферийных территорий – и это несмотря на существенные усилия государства ограничить данный процесс. Традиционные для данного проблемного поля исследовательские подходы предлагают, скорее, описательные модели явления, фокусируемые по большей части на материальной стороне дела (зарплата, работа, социальная инфраструктура), в то время как несомненный, с нашей точки зрения, интерес представлял бы анализ его нематериальных причин.
В связи с этим представляется важным выявление факторов, обуславливающих существование отмеченного негативного процесса, очевидно препятствующего достижению официально манифестируемых целей развития и проявляющегося в центростремительной внутренней миграции, которая превосходит результативность государственной деятельности, противостоящей указанному процессу. Здесь и далее наш анализ относится к запредельным территориям крупных городов и сложившихся агломераций, к провинции, опираясь при этом на методологию, предложенную Ю.М. Плюсниным (Плюснин, 2022).
Мы предположили, что существует определенная дисгармония между восприятием людьми «звучания» слова «развитие» и его официальной трактовкой – желаемый ими и безальтернативно предлагаемый им образ будущего, который в значительной степени определяет успех и неуспех деятельности с целью развития (под успехом мы понимаем улучшение положения людей в результате достижения поставленных целей – в их, разумеется, восприятии). Настоящее исследование представляет результаты поиска ответа на этот вопрос.
Наша гипотеза состояла в следующем: если текущие подходы к экономическому профилированию, а также методы реализации экономической и инвестиционной политики не обеспечивают решение проблемы или хотя бы не смягчают ее, то источники следует искать на более высоком уровне регулирования. Этот уровень – смысловое наполнение термина «развитие» в официальных текстах; то, в какой степени оно связывается с естественной и неотменяемой склонностью людей двигаться к ими же поставленным целям и с наличием ничем не обусловленной возможности для того, чтобы строить свою жизнь, исходя из собственного целеполагания и представлений о благополучии либо, напротив, с вне- и надчеловеческими целями. Мы исходили из того, что значение ключевого термина для рассматриваемого поля отношений определяет содержательное наполнение деятельности, регулируемой профильными официальными текстами. Если под развитием территории понимается деятельность по изменению (как правило, увеличению) тех или иных индикаторов, описывающих материальные факторы ее состояния, не затрагивающая фактор восприятия перемен людьми, то затруднительно ожидать, что эти перемены значимо повлияют на их поведение.
В связи с этим нами была поставлена задача – исследовать смысловое наполнение терминов «развитие» и «управление» в процессе их исторического становления и изменения; рассмотреть ретроспективно основные профильные темы нашего исследования, а также нормативно-правовые акты России и современной Российской Федерации, относящиеся к сфере территориального развития, на предмет обращенности их целеполагания к ожиданиям жителей территорий и учета ими низовых практик развития в конструируемых процессах развития. Не претендуя на окончательность наших заключений и на достаточность полноты охвата профильного массива источников (к решению данной задачи мы планируем приблизиться на следующих этапах работы над данной темой), в этом материале мы представляем некоторые результаты такого анализа.
Научно-справочные источники содержат хронологически различные трактовки терминов «развитие» и «управление». Однако в «Новом словотолкователе» Н.М. Яновского (1803) термин «развитие» и однокоренные с ним слова отсутствуют.
Впервые понятие развития появляется в словаре В.И. Даля (1863), но применительно к «развитию телесному», «умственному», «духовному», т. е. ориентированному на конкретный объект, с которым человек непосредственно взаимодействует. Словарь приводит и связанный с понятием оборот: «эта отрасль промышленности у нас в большом развитии», определяя его как «нерус-ский»1. Это замечание многое сообщает о связи смыслового наполнения слова и современной ему социально-экономической реальности: вне существования промышленности, как доминирующей формы взаимодействия с природой в преимущественно аграрной России, еще не сложились условия для возникновения и закрепления в языке собственной, незаимствованной соответствующей семантической формы. Однако перемены, начатые еще в петровское время и не успевшие отразиться в зеркале словаря, уже массово породили новые практики, вошедшие в жизнь: И.С. Тургенев устами героя своего романа, создававшегося в то же время, что и Толковый словарь, и вышедшего в 1862 г., утверждает: «Природа – не храм, а мастерская, и человек в ней – работник»2.
Существует также третья дата, совпадающая по времени с этими двумя и имеющая глобальное значение: 19.02.1861 г. обнародован Манифест императора Александра II «О Всемило-стивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». Российский житель, представлявший самую массовую социальную группу – крестьянство, получив личную свободу, обрел и свободу целеполагания . Вошла в жизнь новая правовая реальность как воплощение новой парадигмы развития, приуготовленной предшествующими десятилетиями, в которой страна и развивалась вплоть до революции 1917 г. По-видимому, Манифест можно считать первым правовым актом, который, еще не определяя развитие как процесс, определил его актора – человека, и его миссию – свободное действие и соответствующее ему свободное целеполагание.
Анализ глубокого социокультурного сдвига – и формализованного, и вызванного Манифестом – выходит за пределы целей и задач настоящего исследования. Отметим лишь, что на протяжении полувека, в своем новом значении, относясь все больше к состоянию, а не к конкретному действию, (вспомним «нерусский оборот», в оценке В.И. Даля), соединяясь все чаще с новыми коннотациями, термин «развитие» просуществовал вплоть до революции 1917 г. и лишь с ее свершением был переопределен.
Об этом свидетельствует, в частности, практически одновременный выход в 1917 г. двух работ В.И. Ленина, ставших в совокупности социально-экономическим манифестом уже советско-социалистического государства: «Как нам организовать соревнование» (1917) и «Грозящая катастрофа и как с ней бороться».
«Учет и контроль – вот главная экономическая задача каждого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, каждого потребительного общества, каждого союза или комитета снабжения, каждого фабрично-заводского комитета или органа рабочего контроля вообще», – пишет Ленин в первой работе3. Здесь же: «учет и контроль повсеместный, всеобщий, универсальный, – учет и контроль за количеством труда и за распределением продуктов – в этом суть социалистического преобразования, раз политическое господство пролетариата создано и обеспечено». И далее: «надо организовать всенародный, <…> энергично, с революционным энтузиазмом поддерживаемый учет и контроль за количеством труда, за производством и распределением продуктов».
«Царизм, даже “старый режим”, создавая военно-промышленные комитеты, знал основную меру, главный способ и путь контроля: объединение населения по разным профессиям, целям работы, отраслям труда и т. п. Но царизм боялся объединения населения», – утверждается во второй работе и указывается на «главнейшие меры» по учреждению контроля: « Принудительное синдицирование (т. е. принудительное объединение в союзы) промышленников, торговцев и хозяев вообще. <…> Принудительное объединение населения в потребительные общества или поощрение такого объединения и контроль за ним», – разъясняет он свое (ставшее на десятилетия вперед государственной идеологемой) видение такого объединения и далее формулирует: «социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией <…> что такое трудовая всеобщая повинность? Это шаг вперед на базе новейшего монополистического капитализма, шаг к регулированию экономической жизни в целом»4.
Таким образом, указанными двумя документами идея полностью централизованного, без участия людей и предпринимательства, управления развитием с революционной стремительностью была введена в жизнь – в теорию и практику государства – почти на все последующее столетие.
Новая идеологема незамедлительно, в темпе перемен, отразилась и в государственной (время независимых публичных изданий ушло в связи с учреждением всеобщего государственного контроля) семантике. Уже в 1926 г. Большая Советская энциклопедия (БСЭ) отражает перемены, определяя развитие как «необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов». И далее поясняет: «только одновременное наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы Р. среди др. изменений»1. Победившая революция, отрицая свойственную капиталистической, рыночной экономике самоорганизацию, в одночасье переопределила развитие как предмет собственного, политического и государственного ведения.
Как показала история, «обесчеловечивание» деятельности постреволюционного государства запустило обратный отсчет времени его существования. Одновременно остановилось время перемен для смыслового наполнения понятия «развитие». Словарь Д.Н. Ушакова (1935), по прошествии десятилетия глубочайших преобразований, фактически повторяет в этой части БСЭ, хотя и в менее лиминальной формулировке, определяя развитие как «процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное». Революция победила окончательно и бесповоротно, и уже нет необходимости в том, чтобы термин звучал в лозунгово-политическом регистре2.
Хронологически следующее определение понятия «развитие», предлагаемое словарем С.И. Ожегова (1949): «процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого – к сложному, от низшего – к высшему», лишь уточняет предыдущие3. Тем не менее, очередная трактовка, соответствующая запросу социума на сколько-нибудь ощущаемые перемены, не стала новой, фокусируясь уже не на бесповоротности изменений как таковой, а обещании более совершенного состояния, той самой точки на горизонте, которая намечена и обещаема как результат усилий по строительству нового общества.
Словарь С.И. Ожегова закономерно отражает восприятие феномена, уже более чем сложившееся, ко времени обобщения в тексте словарной статьи. По существу, он говорит о развитии как об изменении состояния для достижения государственной , институциональной цели, отражая и фиксируя глубинную сущность советского государства, которое манифестировало построение нового общества как свою миссию и функцию, и констатирует завершение формирования нового, «советского» значения слова «развитие». Капитализм в России сменился формацией, свободной от иного восприятия людей, кроме как одного из ресурсов, и придавшей процессу развития новую форму воплощения: доход и прибыль, как индикаторы его движения, были заменены сложной системой назначаемых показателей, что повлекло за собой необходимость создания разветвленного правового регулирования экономической деятельности и, собственно, контроля над поведением людей.
Лишив экономического актора свободы, некогда дарованной Манифестом, новая система управления встроила человека в полностью регулируемое пространство развития уже не как источник целеполагания, а как средство достижения целей, предопределенных ею и не имеющих отношения к осознаваемым людьми интересам и потребностям. Человек снова был интегрирован в природу, но не воссоединен с ней, а встроен как промежуточное технологическое звено, необходимое для извлечения, преобразования и передачи всего требуемого для достижения того самого «более совершенного» состояния.
Акценты на «направленное» изменение и «более совершенное» состояние пусть не прямо, но говорят и о восприятии развития как процесса движения к некоей цели, его направляющей. Можно заключить, что уже в первые послереволюционные годы утвердилась трактовка развития скорее не как процесса движения к целям, проистекающим из естественных мотиваций людей, а стремлением к достижению соответствия неким требованиям, смысл, история возникновения которых и расположение относительно настоящего – за пределами этих мотиваций. Идея развития утратила черты отклика на глубинную потребность человека и, напротив, взамен обрела формы надчеловеческого культа.
Запрет на свободное целеполагание акторов, закономерно породив новое понимание развития, воззвал к жизни и новую для российского социально-экономического пространства практику централизованного управления развитием.
Если в словаре Н.М. Яновского (1803) термин «управление» отсутствует, то в словаре В.И. Даля он определен, в том числе и как: «править, давая ход, направленье; руководить, направлять деятельность, действия» – чьи бы то ни было1. А БСЭ уже определяет его как «функцию организованных систем , …, обеспечивающую сохранение их определенной структуры , поддержание режима деятельности, … цели деятельности»2.
Словарь, таким образом, лишь вторит официальному тексту первого в истории Советской России управленческого документа в сфере развития – плану ГОЭЛРО: в своем докладе на VIII Всероссийском съезде Советов (декабрь 1920 г.) В.И. Ленин утверждал: «На мой взгляд, это – наша вторая программа партии», подтверждая идеологичность подходов к управлению развитием.
Закономерно, что в преамбуле документа утверждается: «Быстрейшее развитие крупной машинной промышленности, обеспечение опережающего развития тяжелой индустрии и электрификации, как ее технической базы и составной части, было генеральной линией Коммунистической партии». План ГОЭЛРО содержал разбивку территории Советской страны на ряд крупных экономических районов, «основанную на правильном территориальном распределении общественного труда и производства по отдельным районам и зонам с надлежащим учетом своеобразия, особенностей их экономики, природных, сырьевых и энергетических ресурсов и веками сложившихся в этих районах национальных комплексов»3. Не умаляя значимости человеческого фактора, План определяет вполне в логике упомянутых выше ленинских работ 1917 г., что «...советская власть должна будет проводить систематическое воздействие на волю и производственную обстановку трудового крестьянства, с разумной последовательностью подводя его к все более и более высоким типам обобществления сельскохозяйственного труда и высокому уровню сельскохозяйственной техники»4.
Нельзя сказать, что человек не присутствует в тексте Плана или вовсе в нем забыт. Предлагая ту самую точку на горизонте, не только требуя, но и обещая, План утверждает, что «электрификация всех фабрик и железных дорог», «сделает условия труда более гигиеничными, избавит миллионы рабочих от дыма, пыли и грязи, ускорит превращение грязных, отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека, лаборатории» и далее указывает, что электрификация страны совершается «в интересах рабочих и крестьян». От имени народа в тексте сообщается, что «План электрификации был с энтузиазмом воспринят советским народом как боевая программа великих работ, направленная на ликвидацию в минимальный период силами и средствами Советского государства огромной отсталости нашей Родины в хозяйственно-техническом и культурном отношении. Легитимизация утверждений о тех или иных интересах народа, делаемых от имени и без участия последнего через включение их в правоустанавливающие документы, с этого времени не только стала традицией, но и важнейшим элементом процесса государственного управления.
Одновременно и вслед за планом ГОЭЛРО, ставшим эталонной практикой программирования и планирования действий по развитию, в период с 1920 г. и до 1990 г. были приняты его многочисленные системные и отраслевые клоны: программы индустриализации, восстановления разрушенного хозяйства, освоения космического пространства, совершенствования управления, продовольственная, энергетическая и др. Одной из крупнейших по масштабам и социально-экономическим последствиям комплексных программ стала программа по созданию второй угольной металлургической базы на Востоке страны. Мы опускаем результаты их рассмотрения с позиций данного исследования, ограничиваясь лишь констатацией того, что план ГОЭЛРО явился смысловым клише для большей части из них на весь советский период развития России.
Значимый вывод по результатам проведенного анализа состоит не только в том, что по В.И. Далю, объект управления – некий процесс, а субъект – его владелец, человек, а по БСЭ и позднейшим словарным источникам – объект управления – система, структура, а субъект – некоторая ее обеспечивающая часть и/или параметр/параметры. Удалось заметить, что с началом советского периода в России сформировалось очередное, соответствующее новой, постреволюционной парадигме государственного устройства официальное восприятие терминов «развитие» и «управление», которое уже не объясняет содержательно их смысл , а закрепляет предустановленное на нормативно-правовом уровне толкование . Можно видеть также, что использованная исследовательская схема оправдала себя и, значит, анализируя уже современные официальные тексты, оперирующие данными понятиями, можно через анализ (дис)гармоничности восприятия людей заявляемых ими целей и устанавливаемых подходов к управлению развитием приблизиться к пониманию существующих проблем в этой сфере и возможных подходов к их разрешению.
В связи с этим важным представляется вопрос, в какой степени очередная смена формации, связанная с распадом СССР и установлением в России государства с социально ориентированной, рыночной (а значит – свободной в части индивидуального целеполагания) экономикой, отразилась в смысловом наполнении понятий развития и управления и интерпретации их официальными текстами, привела ли к их содержательному изменению в отношении человекоцентричности.
Неспециальный толковый словарь Т.Ф. Ефремовой (2005) продолжает, «не замечая» перемен, трактовать управление как «деятельность, направляющую и регулирующую общественные отношения через посредство органов государственной власти », отражая свет уже погасшей «звезды» революционной идеологии1.
Одновременно и экономико-математический энциклопедический словарь В.И. Данилова-Данильяна (2003) предлагает еще «советскую», «бесчеловечную», но уже более размытую формулу: «управление – функция системы, ориентированная либо на сохранение ее сущностных свойств, утрата которых означает разрушение системы (т. е. на выживание), либо на достижение конкретной цели, выполнение определенной программы, решение некоторой задачи, фиксируемых извне системы»2. Отвлеченная наука уже ощутила перемены, но ее язык еще не отрефлек-сировал их.
Вместе с тем, экономический словарь-справочник М.М. Гацалова (2002) «высказывается» совершенно иначе, трактуя развитие уже как «процесс улучшения качества жизни всего населения», который «включает три важнейшие составляющие: (1) повышение в ходе взаимосвязанных процессов экономического роста качества жизни людей – доходов, потребления продовольствия, уровней образования и медицинского обслуживания и т. п.; (2) создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате формирования социальной, политической, экономической и институциональной систем, ориентированных на уважение человеческого достоинства; (3) укрепление свободы путем расширения для людей возможностей улучшения их снабжения потребительскими товарами и услугами», тем самым фиксируя (с лагом в десятилетие) возвращение рассматриваемому термину его исконного значения3. Профессиональный словарь оказался первым зеркалом, отразившим язык нового этапа существования страны и воплощающих его практик.
В связи с этим можно заключить, что смена парадигмы государства вновь, хотя отложенно и все еще дискуссионно, отразился в языке, поначалу – в языке профессиональной когорты экономистов, непосредственно вовлеченной в практики перемен. Тем более важным представляются вопросы о том, проникло ли новое (вернулось ли исконное) понимание развития в язык нормативно-правовых текстов и в практику управления территориальным развитием.
Ответ на первый вопрос мы попытались получить, рассмотрев совокупность актуальных российских нормативно-правовых актов, регламентирующих территориальное развитие и управление им, используя уже представленный выше подход – анализ смыслов рассматриваемых терминов. При этом особенное внимание было уделено актам, определяющим полномочия органов местного самоуправления в сфере территориального развития относительно того, что именно на местном, провинциальном уровне возможен прямой контакт системы управления с носителями (а не выразителями) частных интересов. Именно на местном уровне существуют и проявляются особенности и различия устоявшихся на территории практик, в совокупности определяющие уникальность муниципальных районов в отношении чувствительности к драйверам и инструментам развития, регламентируемым общегосударственным законодательством. Ниже представлены его результаты. Однако прежде чем перейти к ним, полагаем важным сделать несколько замечаний, относящихся к предмету второго вопроса.
Ситуация с проникновением человекоцентричного подхода к управлению развитием территории в соответствующие практики обстоит по-разному в пределах разных административнотерриториальных образований. Не располагая соответствующими экспериментальными данными (их сбор и анализ в планах нашей дальнейшей работы), мы вынуждены были ограничиться в данном исследовании анализом все тех же релевантных нормативно-правовых и программных общенациональных государственных актов на предмет предусмотренности ими тех или иных мер вовлечения людей в процессы реализации предполагаемых ими целей развития.
Выбирая данную исследовательскую оптику, мы опирались на концепцию ландшафта, используемую не только в материнской для нее области знания – географии, но и в ряде других областей (Родоман, 2006; 2023). Следуя этому выбору, в нашем анализе мы рассматриваем ландшафт развития территории как совокупность характерных для нее практик, осуществляемых участниками процесса развития согласно их целям. Мера присутствия в локальных практиках развития человекоцентричных подходов, степени вовлеченности жителей территории и учета их представлений о развитии рассматривается как фактор отличия территориальных ландшафтов развития. Для описания данного фактора мы предлагаем термин «деятельностный ландшафт развития территории», под которым мы понимаем совокупность устойчиво осуществляемых в ее пределах социальными акторами открытых (доступных для присоединения заинтересованных сторон) низовых частных практик и инициатив, взаимосвязанных с иными, отличающими территорию, ландшафтами.
В свою очередь, природа таких практик, возникновение их естественным образом и/или в результате целеориентированных действий профильных официальных структур представляет собой характеристику степени проникновения человекоцентричности в процессы развития, инициируемые извне по отношению к территории. Для описания деятельности по развитию деятельностного ландшафта мы предлагаем термин « деятельностный ландшафтинг развития территории» , понимая под ним устойчивое равноправное взаимодействие социальных акторов и иных заинтересованных сторон по взаимоинтеграции существующих в ее пределах низовых практик, инициатив и действий, предпринимаемых извне относительно территории, по ее развитию.
Опыт таких территорий, как г. Городец на Волге (Нижегородская область), г. Суздаль и ряда других свидетельствует о том, что локальный деятельностный ландшафт развития может существовать в режиме внутритерриториальной самоорганизации заинтересованных сторон, выстроенной в логике партисипативной активности административных органов по вовлечению горожан в обустройство городского пространства. При этом могут достигаться значимые результаты, мало связанные с бюджетными затратами, т. е. внешним (регионального, национального уровня) целеполаганием и в отсутствие осознанного применения деятельностного ландшафтинга.
Относительная немногочисленность примеров такого рода приводит к заключению о том, что добрая воля законодателя, предусматривающего возможность вовлечения людей в процессы позитивных изменений на территории, еще не порождает автоматически соответствующий результат. Наш анализ источников отмечаемого явления приводит к заключению о том, что деятельностный ландшафт развития территории способен возникать и устойчиво существовать даже в отсутствие внешнего участия в его функционировании. В связи с этим последующий анализ профильной нормативно-правовой базы мы осуществляли на предмет определения преду-смотренности ею деятельностного ландшафта развития как одного из объектов управления и деятельностного ландшафтинга как одного из подходов к осуществлению практик по реализации устанавливаемых задач развития.
Ниже представлены результаты предпринятого в этих целях анализа нормативно-правовой среды современной России.
В условиях перехода к рыночным отношениям (1991) и до настоящего времени нормативно-правовая база структурируется на федеральные, региональные, муниципальные, ведомственные целевые программы, программы социально-экономического развития, комплексные государственные программы разных уровней управления. Начальный период становления нового законодательства характеризовался очевидным наследованием подходов программно-целевого планирования, четко выраженной отраслевой и территориальной структурированностью. Одновременно с ростом количества реализуемых программ развивался процесс методологического осмысления в социуме происходящего, направленного на осознание соотношения между новой парадигмой развития страны и подходами к нему, рожденными в советский период.
Так, Г.С. Поспелов предложил концепцию государственного планирования и программирования «от потребностей населения», в центре которой находилась идея человекоориентирован-ности работы производственного комплекса, направленной в первую очередь на удовлетворение потребностей населения. Указанный подход отличался от унаследованных схем программно-целевого планирования СССР и на практике в полном объеме реализован не был (Умерова, 2018). Несмотря на целенаправленные попытки изменения и подстройки планового механизма в СССР к новой парадигме государственного устройства, встроить в него элементы человекоориентиро-ванности долгое время не удавалось.
Ликвидацию в 1991 г. Государственного планового комитета принято считать формально завершенным этапом директивного планирования СССР. Однако кризисные явления, закономерные в условиях практик государственного управления, выстроенных в логике реализации целей человекоориентированного развития средствами «бесчеловечного» программно-целевого подхода (такие как разрывы плановых и фактических показателей в производстве и распределении), продолжали возникать с регулярностью, свидетельствующей о необходимости иных средств «лечения», чем принятие корректирующих нормативных актов. Тем более очевидно, что подобная практика еще советских времен оказалась малоэффективной: даже опередивший свое время Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)», существенно улучшая ситуацию в частностях, в том числе и важных, не смог решить возникающие проблемы (Ермилина, 2016).
Связующим звеном предшествующего и нового этапов существования государственной системы управления развитием стали не замененные ничем качественно новым практики и технологии управленческой деятельности советского периода: прогнозы, стратегии, концепции, долгосрочные, краткосрочные целевые и комплексные программы, направленные на решение конкретных приоритетных проблем в различных сферах хозяйствования и жизнедеятельности. Основными нормативными актами, регламентирующими механизмы реализации программ развития в рамках нового этапа (после 1991 г.), стали: Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 «Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация», Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», обширный массив примыкающих подзаконных и региональных нормативно-правовых актов. Их анализ показывает, что понимание необходимости глубокой децентрализации в данной сфере не смогло воплотиться в форме глубокой сущностной трансформации механизмов и инструментов развития. Происходило, образно говоря, то, о чем нельзя сказать лаконичнее, чем словами французской поговорки: «мертвый хватает живого».
Н.В. Зубаревич пишет об этом: «Отношения между центром и регионами в России … претерпели сильнейшие трансформации: от анархической децентрализации 1990-х гг. до сверхцентрализации управления и бюджетной системы в 2000-х гг., от выборности глав регионов до их назначения, а также перехода к полностью контролируемым выборам мэров в большинстве регионов» (Зубаревич, 2014). Этот процесс отчетливо проявляется и в трансформации законодательства современной России о местном самоуправлении.
В логике необходимости децентрализации начиная с 1990-х гг. нормативно-правовая база о местном самоуправлении активно разрабатывалась и развивалась: определено понятие «местного (территориального) самоуправления»1, расширены полномочия местных советов, в том числе в отношении обеспечения нужд населения (коммунально-бытовых, социально-культурных), помощи населению в трудоустройстве2. Указанные акты содержали попытки законодателей учесть интересы граждан в решении местных вопросов, однако нормативная база не содержала положений о принципах участия населения в развитии территорий. Еще одна попытка включения населения в решение вопросов местного значения совершена через призму определения «местное самоуправление», данного принятыми в 1991 г. (с изменениями в 1992 г.) Законами, закрепившими также ответственность граждан за реализацию вопросов местного самоуправления, невыполнение решений Совета, местной администрации3.
Децентрализация, применительно к местному самоуправлению, отразилась в нормативноправовых актах о передаче объектов государственной собственности в распоряжение муниципалитетов, о разграничении государственной собственности в Российской Федерации, в том числе муниципальной, установлении общих принципов организации местного самоуправления.
Принятые в анализируемый период трансформации местного самоуправления Указы Президента России4 сопровождались разъяснениями государственно-правового Управления Президента РФ, которые указывали на гарантии прав населения соответствующих территорий.
Принятие Конституции РФ (12.12.1993 г.) стало закономерным и ключевым этапом в переходе от практики исправления несовершенств управления экономикой через принятие узкопрофильных государственных актов к системным решениям по сближению архаических постсоветских практик и механизмов управления с его новыми целями и задачами. Глава 8 Конституции была полностью посвящена развитию законодательной базы для местного самоуправления. Основой конституционного воплощения реализации местного самоуправления было определено активное участие населения в решении вопросов на местах. На высшем уровне местное самоуправление было определено как форма осуществления народовластия, Основной Закон закрепил механизм его осуществления и гарантии реализации. Согласно Конституции 1993 г. структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно (статья 131
Конституции от 12.12.1993), местное самоуправление обладает самостоятельной ролью в системе публичной власти1.
Закрепление в Основном законе государства элементов народовластия на уровне местного самоуправления, права решения местных вопросов повлекло за собой создание и проработку законодательной базы, инструментов и механизмов реализации местного самоуправления. Развитие Основного Закона страны с 19952 по 2003 гг.3 формировало Федеральное законодательство. Одним из важнейших в контексте задачи нашего исследования и, на наш взгляд, негативных положений сложившейся нормативно-правовой базы стало установление за субъектом РФ права на принятие законов о местном самоуправлении. Самостоятельность местного самоуправления была значительно ограничена предоставлением субъектам РФ полномочий по его правовому регулированию, объем которых сокращен Законом 2003 г. Тем самым были существенно девальвированы возможности МСУ по конструированию механизмов вовлечения людей – потребителей государственной услуги по развитию локаций проживания и их низовых практик – в соответствующие процессы, инициируемые на государственном уровне.
Основные задачи Законов № 154-ФЗ и № 131-ФЗ отличались: если первый постулировал изменение советской системы местной власти и создание ее новой концепции в системе народовластия, то второй предполагал начало расширения компетенций гражданского общества (Андреева, 2022).
Историческое время, когда складывалась все более полная зависимость, подчиненность местного самоуправления государственной власти регионов, оставило глубокий, хотя и окрашенный их различиями и спецификой, след в региональных, локальных управленческих и деятельностных ландшафтах, культурах, традициях, практиках взаимодействия региональных и местных органов. Инициативные практики преобразований на местах, возникшие в процессе общегосударственных трансформаций, в итоге не получили закрепления на уровне государственного законодательства, напротив, они постепенно упрощались и минимизировались по мере детализации государственных регламентаций.
В Федеральный закон от 2003 г. законодателем вносились многочисленные изменения, которые не смогли оказать заметного положительного влияния на развитие местного самоуправления в части вовлечения граждан в процессы развития на местах. За время существования Закона дистанция между населением и местной властью в данном отношении не сократилась. Законодательные попытки закрепления за населением участия в осуществлении местного самоуправления не удалось реализовать на практике. Это произошло, в том числе и потому, что в отсутствие понимания необходимости такого участия в реконструкции низового деятельностного ландшафта развития и попыток законодателей хотя бы предложить условия для реконструкции, возрождения деятельностного ландшафта низовых инициатив по развитию, люди нашли иной способ влиять на свою ситуацию – не через улучшение пространства проживания, а через его смену. Существенное переформатирование системы льгот через их монетизацию не улучшило положение дел в данном отношении, а скорее усугубило, став антиподом ландшафтинга. Одним из малоосознанных, но, возможно, наиболее важных вторичных эффектов отмены льгот и введения заменяющих их выплат стал отказ от признания ценности ранее одобренных (как правило, связанных с территорией) персональных заслуг граждан, получивших в советское время особенные персональные статусы. Произошла девальвация совокупности социальных капиталов, располагаемых сообществом в целом, мотивации к взращиванию этой их составляющей, вырождение соответствующих низовых практик.
В связи с этим изменения в 2014 г. Закона № 131-ФЗ, вновь закрепившие за органами власти субъектов полномочия по правовому регулированию местного самоуправления, а также изменения правил определения компетенции органов местного самоуправления, их взаимоотношений с органами государственной власти, ожидаемо не принесли положительного эффекта как для МСУ, так и для населения, проживающего на территориях. Таким образом, за время действия Закона № 131-ФЗ не произошло качественного скачка в развитии местного самоуправления (Ежукова, 2018).
Новейшим этапом законодательных изменений института местного самоуправления стала Конституционная реформа 2020 г. Ключевым, на наш взгляд, новшеством явилось закрепление в действующем законодательстве категории «публичная власть» и установление права регулирования органами власти процессов на местах. Несмотря на изменения норм, практика свидетельствует о необходимости развития гибкой системы перераспределения полномочий между регионами и му-ниципалитетами1. Существенным обстоятельством при установлении вертикали отношений для местного самоуправления стало нивелирование его значимости как механизма учета локальных особенностей, способное негативно сказаться на уровне вовлеченности локальных сообществ в решение вопросов территориального развития.
Исследователи обоснованно отмечают и преемственность, и отличия российской модели местного самоуправления и советской. В частности, различны структура системы местных органов, организация их деятельности. Вместе с тем, есть схожие, сохранившиеся в порядке преемственности, подходы и элементы функционирования. При этом отмечается, что совершенствование законодательной базы о местном самоуправлении с учетом новых, в том числе социальноэкономических вызовов, не должно ограничивать независимость местного самоуправления и возвращать его развитие к советской модели, в которой местные советы по существу представляли на местах органы государственной власти, решающие вопросы обеспечения жизни населения на территории проживания (Кожевников, 2021).
Вместе с тем, нормы Федерального законодательства (часть 3 статья 9 ФЗ № 172-ФЗ, п. 4 ч. 10 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ (косвенно)) не предусматривают за населением непосредственного права выступать в качестве полноценного участника стратегического планирования на территории проживания. Такое участие возможно лишь согласно отдельным нормативноправовым актам – при условии их принятия. Таким образом, при действующих нормах Основного Закона страны о верховенстве власти народа население не является действенным субъектом такой власти в части, относящейся к разработке, принятию, реализации стратегии социальноэкономического развития территории муниципалитета. Участие населения оказывается номинальным и сводится к формированию рекомендательного мнения, которое необязательно к исполнению для субъектов власти (Кожевников, 2022). В состав участников стратегического планирования, согласно профильному законодательству, также не включены, в отличие от программных документов советского периода, субъекты экономической деятельности, располагающие правом и возможностью собственного целеполагания и в силу этого способные оказывать существенное влияние на положение дел на территории присутствия и важные для экономик территорий и страны в целом. Тем самым важнейшая составляющая процесса развития – целеполагание – пока не стала продуктом синергии низовой и межсекторной социально-экономической активности и государственных инициатив, сохраняясь в виде набора вмененных и отчужденных от территорий ориентиров.
Новейший этап трансформации понимания соотношения места, роли государства и человека связан с учреждением системы Национальных и федеральных проектов, многие из которых фокусируются на реальных потребностях людей – здоровье, занятости, образовании. Вместе с тем, реализация проектов продолжает подчиняться все той же архетипической, советской управленческой схеме. Хотя подлежащие достижению показатели, установленные на общегосударственном уровне, декомпозируются до территории административного образования, человек и его интересы присутствуют в них хотя и назывным, но более выраженным образом.
Системообразующим документом в отношении трактовки терминов «управление» и «развитие» является 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской федерации» от 28.06.2014 г. Согласно данному Закону муниципальное управление – деятельность органов местного самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития2. Таким образом, принятый в рамках действующего законодательства понятийный аппарат подтверждает наличие тесной взаимосвязи между управлением и развитием как элементами единого процесса изменения по возникновению нового качественного и количественного состояния объекта (территории). В данном отношении квинтэссенцию современных смыслонесущих текстов представляет собой Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 г. Она определяет, в частности, пространственное развитие как «совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет эффективной государственной политики регионального развития», косвенно признавая многообразие и индивидуальность территорий в пределах ре-гионов3, возвращая исконное понимание термина «развитие» в язык официальных текстов.
Таким образом, можно заключить, что многочисленные изменения законодательства о местном самоуправлении в процессе развития и изменений с 90-х гг. XX в. дали новую жизнь идее развития как процесса организации жизни на территории для взаимодействия государственных и местных структур при обязанности последних учитывать интересы жителей территорий. Не только словарные дефиниции термина «развитие», но – вновь – и тексты официальных документов (в их числе помимо законодательных актов уже и программные документы), хотя и с разной степенью отчетливости, говорят об этом. Вместе с тем, они еще не содержат положений по формированию и закреплению конкретных механизмов, инструментов вовлечения и равноправного участия людей, обеспечению возможности их прямого, непосредственного участия в конструировании и реализации значимых для них будущих решений на местах. Практически не обновлен подход, свойственный ушедшим формациям, не предусматривается постановка целей и задач по деятельностному ландшафтингу в продолжение логики «для людей, но без людей». Человек – житель территории – получил субъектность относительно экономической деятельности, но не для устройства территории проживания.
Рассогласование государственных идеологем высшего уровня, закрепленных Конституцией РФ, механизмов их реализации в отношении роли, придаваемой человеку, оставаясь реальностью, закрепленной и множеством действующих нормативно-правовых актов, и практиками их реализации, обретает характер важной социальной проблемы, требующей, в том числе и научного осмысления (Ивашиненко, Теодорович, Патокина, 2023).
Поиск решений, которые реализовывали бы постулированную в Конституции РФ идею верховенства власти народа в практиках территориального развития, воплощающих представления людей о желаемом ими будущем, продолжается. Человекоцентричное понимание терминов «развитие» и «управление», укоренившись в современном нам языке, проникло и в тексты официальных документов, не затронув, однако, практики их реализации. Люди, проживающие на «земле», заинтересованные в качественном и эффективном решении вопросов на местах – как они это представляют, располагают возможностью управлять ситуацией на территории, как правило, в меру собственной проактивности и ресурсности. Еще только предстоит увидеть, как будет приведен в действие такой решающий для территориального развития фактор, как вовлечение людей в обустройство локальных пространств проживания на основе совмещения их видения будущего с программными индикаторами развития.
Можно ожидать, что выявленная в подтверждение нашей гипотезы закономерность проявится в процессе планируемой Правительством РФ актуализации Национальных проектов, в том числе и в связи с тем, что уже накоплен опыт деятельностного ландшафтинга в ряде малых городов России, объединяющий низовую активность людей и инициативы местных органов. Эти устойчиво действующие практики представляют собой ценный источник понимания устройства партисипативного механизма управления развитием на местном уровне, а существующие деятельностные ландшафты совместно с результатами анализа источников их формирования и условий существования – базовую модель для масштабирования и тиражирования человекоцентричного подхода к территориальному развитию.
Список литературы Социальные факторы территориального развития в российском нормативно-правовом регулировании
- Андреева О.А. Местное самоуправление в Российской Федерации: к истории становления правового регулирования // Государственная власть и местное самоуправление. 2022. № 9. С. 11–14. https://doi.org/10.18572/1813-1247-2022-9-11-14.
- Ежукова О.А. Предварительные итоги развития конституционной модели местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 11. С. 27–33.
- Ермилина Д.Е. Стратегическое планирование в России: история и современность // Проблемы рыночной экономики. 2016. № 1. С. 4–10.
- Зубаревич Н. В. Региональное развитие и региональная политика в России // ЭКО. 2014. № 4 (478). С. 6–27.
- Ивашиненко Н.Н., Теодорович М.Л., Патокина Н.Н. Локальные сообщества как драйверы развития малых городов // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2023. Т. 14, № 3. [Без пагинации].
- Кожевников О.А. О нормативной регламентации вопросов местного значения // Российский юридический журнал. 2021. № 4 (139). С. 55–61. https://doi.org/10.34076/20713797_2021_4_55.
- Кожевников О.А. Участие населения в принятии и реализации программных документов муниципальных образований // Конституционное и муниципальное право. 2022. № 9. С. 60–64. https://doi.org/10.18572/1812-3767-2022-9-60-64.
- Плюснин Ю.М. Социальная структура провинциального общества. М., 2022. 448 с.
- Родоман Б.Б. Культурный ландшафт и судьба России / под ред. Т.И. Герасименко. М., 2023. 488 с.
- Родоман Б.Б. Под открытым небом. О гуманистичном экологическом воспитании. 2-е изд. М., 2006. 182 с.
- Умерова С.А. Развитие программно-целевого управления в СССР и России // Вестник СГСЭУ. 2018. № 2 (71). С. 109–115.