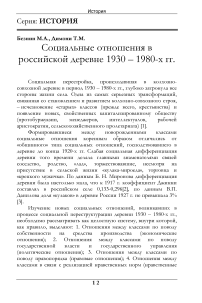Социальные отношения в российской деревне 1930 – 1980-х гг.
Автор: Безнин М.А., Димони Т.М.
Журнал: Доклады независимых авторов @dna-izdatelstwo
Рубрика: История
Статья в выпуске: 24, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/148311884
IDR: 148311884
Текст статьи Социальные отношения в российской деревне 1930 – 1980-х гг.
Социальные отношения в российской деревне 1930 – 1980-х гг.
Социальная перестройка, происходившая в колхозносовхозной деревне в период 1930 – 1980-х гг., глубоко затронула все стороны жизни села. Одна из самых серьезных трансформаций, связанная со становлением и развитием колхозно-совхозного строя, – исчезновение «старых» классов (прежде всего, крестьянства) и появление новых, свойственных капитализированному обществу (протобуржуазии, менеджеров, интеллектуалов, рабочей аристократии, сельскохозяйственного пролетариата) [1].
Формировавшиеся между новорожденными классами социальные отношения коренным образом отличались от «общинного» типа социальных отношений, господствовавшего в деревне до конца 1920-х гг. Слабая социальная дифференциация деревни того времени делала главными знаменателями связей соседство, родство, «лад», торжествовавшие, несмотря на присутствие в сельской жизни «кулака-мироеда», торговца и «крепкого мужичка». По данным Б. Н. Миронова дифференциация деревни была настолько мала, что к 1917 г. коэффициент Джинни составлял в российском селе 0,133-0,296[2], по данным В.П. Данилова доля «кулаков» в деревне России 1927 г. не превышала 3% [3].
Изучение новых социальных отношений, возникавших в процессе социальной переструктурации деревни 1930 – 1980-х гг., необходимо рассматривать как целостную систему, внутри которой, как правило, выделяют: 1. Отношения между классами по поводу собственности на средства производства (экономические отношения); 2. Отношения между классами по поводу государственной власти и государственного управления (политические отношения); 3. Отношения между классами по поводу правопорядка (правовые отношения); 4. Отношения между классами в связи с реализацией нравственных норм (нравственные
Доклады независимых авторов 2013 выпуск 24 отношения); 5. Отношения между классами по поводу создания и потребления духовных ценностей[4].
Глубина социально-классового раскола деревни была уже в первой половине колхозно-совхозного времени достаточно велика, чтобы ее смогли заметить современники. Простейшим отражением этого являлось осмысление в экономической повседневности проявлений социального расслоения деревенскими жителями. Так, В.М. Князева (1914 г.р.), колхозница Кемеровской области во время беседы с ней в конце 1990-х гг. говорила о начальных десятилетиях колхозной жизни: «В колхозе жили не все одинаково. Хорошо жили председатель и бригадиры. Они, конечно, богато жили. Были грамотными, поэтому больше всех и получали. А мы должны были своим трудовым потом зарабатывать на жизнь» [5]. Отчетливо описано расслоение деревни во многих произведениях публицистики и художественной литературы. Например, Ф.Абрамов в повести «Вокруг да около» (1963 г.) среди многих других ярких описаний неравенства отмечает: «Дом служащего, или, как говорят в деревне, человека на деньгах, отличишь сразу. Он и понаряднее, этот дом: наличники у окошек и двери непременно покрашены, вместо жердяной изгороди оградка из рейки или плетень из сосновых или еловых колышков. И, конечно, радиоантенна над крышей». Расслоение в деревне было зафиксировано и советской социологией села. По расчетам, сделанным Н.Е. Рабкиной, Н.М. Римашевской, децильный коэффициент дифференциации доходов колхозников СССР (по совокупному доходу) составлял в 1960-е гг. около 4 раз, что показывает достаточно высокую степень дифференциации сельского общества [6].
На формирование отношений между классами влияли разные факторы. Среди них – численность каждого класса, его «родовые» признаки (социальная среда, из которой он формировался, родство с «власть имущими», или «прежними» деревенскими классами), особенности трудовых операций, в том числе их новизна для деревни, близость к собственности, отношения с другими социальными группами и т.д.
Самым большим по численности в течение 1930-1980-х гг. был класс сельскохозяйственного пролетариата (рядовых колхозников и совхозных рабочих). Второе место в 1930 – 1940-е гг. занимали сельскохозяйственные менеджеры (бригадиры, управляющие отделениями, счетоводы и др.), в 1960-1980-е гг. это место перешло к рабочей аристократии (трактористам, комбайнерам, шоферам), в то время как менеджеры постепенно переместились на четвертую ступень в численном «соревновании» классов. Сельскохозяйственные интеллектуалы (агрономы, зоотехники, ветеринары и др.), бывшие в 1930 – 1940-е гг. самым малочисленным классом, к концу 1980-х гг. прочно перемещаются на третье место среди всех классов деревни. Самым малочисленным деревенским классом почти весь период времени (за исключением 1930 – 1940-х гг., когда все же он превосходил по численности сельскохозяйственных интеллектуалов) был класс сельскохозяйственной протобуржуазии (председателей колхозов, директоров совхозов и МТС). Фактор численности того или иного сельскохозяйственного класса, скорее всего, не оказывал решающего влияния на формирование межклассовых отношений. Однако, нельзя сбрасывать со счетов, что находящиеся в не самом привилегированном положении малочисленные классы, к тому же не вписывавшиеся в «старую» традицию взаимоотношений социальных групп (интеллектуалы, рабочая аристократия) должны были выдержать более жесткую борьбу за свои права и найти место в социальных отношениях. Малочисленный же класс, явно находившийся в привилегированном положении – протобуржуазия – использовал численное меньшинство для консолидации с более высокими «властными» кластерами и как фактор правового, экономического и политического доминирования на селе. Сельскохозяйственный пролетариат, оставаясь самым многочисленным классом, придавал всем межклассовым отношениям в российской деревне патриархально-деревенскую окраску. Во многом это объяснялось сельским образом жизни с его патернализмом, традициями соседства, «прозрачностью» быта, распространенностью родственных связей и т.д.
Большую роль в выстраивании отношений «низших», «средних» и «высших» классов села играло бытование некоего эталона взаимоотношений с начальством, идущее еще от традиций общинной жизни. Историк А.В. Туторский установил, что в начале 1930-х гг. председатель колхоза мог действовать как лидер общины, распределяя урожай «по едокам» или стремясь сохранить для деревенских работ лучших тружеников, не отпуская их на лесозаготовки. Положение и задачи бригадира колхоза, по его же материалам, напоминали положение и задачи околоточного старосты [7].
Привычные «начальственные» роли протобуржуазии и менеджеров проявлялись в традиции определенного «чинопочитания». Диссидент А. Амльрик, описывая жизнь в сибирской деревне середины 1960-х гг., отмечал: «В Гурьевке вообще ни к кому не обращались: Степанида Алексеевна, или Мария Степановна, или Дмитрий Иванович, а говорили просто: Стешка, Манька, Митька. Или же давали прозвища… Только к бригадиру большинство обращалось по имени-отчеству, а те, кто помоложе, говорили: дядька Шаповалов»[8]. Об особом «почитаемом» статусе «начальства» уровня протобуржуазии и менеджеров пелось и в частушке, настолько распространенной, что писатель В. И. Белов процитировал ее в своем знаменитом «Привычном деле»:
Сами, сами бригадиры,
Сами председатели.
Никого не почитаем –
Ни отца, ни матери! [9]
Также привычной была роль в межклассовых отношениях «рядовых колхозников» - класса сельскохозяйственного пролетариата – труд которого продолжал оставаться «крестьянским». А.П. Крутов, житель вологодской деревни, вспоминал в 1990-е гг. работу в колхозе 1930 – 1950-х гг.: «На работу шли как на праздник, с гармошкой, с песнями и какие бы не были усталые, возвращались тоже с песнями. А выходили работать не как теперь: к такому-то часу и до такого-то, - нет, солнышко нас в кровати не заставало» [10]. Бывшая колхозница М. Лаврентьева рассказывала: «А наряда очень слушалися, никто не отпирался. Куды пошлют, туды и пойдем. Раз надо работать, дак... Не спорили» [11].
Следовательно, классы, выполнявшие управленческие трудовые операции, воспринимались деревенской средой как верхушка, начальство деревни. Деревенским сообществом подмечалось, что они тесно общались с высшими этажами власти (областными, районными) и транслировали властные решения в «низы». А. Грибачев, описывая в поэме «Флаг над сельсоветом» (1947 г.) связь верхнего звена управленцев колхозов и совхозов с районной властью, представил следующую картину:
…По проводу прямому
Из собственного дома
Звонит колхозный председатель
Секретарю райкома.
Зовет к прямому проводу
По случаю, по поводу,
По хлебу и покосу,
По срочному вопросу
По важному, текущему,
По делу по насущному…
Это «промежуточное» положение между «верхами» и «низами», особенно протобуржуазного класса деревни, отмечали и рядовые колхозники. Колхозник Н.И. Носков (1919 г.р.) из-под Вятки говорил о председателе колхоза «Да и то сказать, что с него взять? Ведь он тоже человек подневольный. С него райком партии требовал отчета за всё» [12]. Социальная влиятельность деревенских «высших» классов в отношении всех остальных проявлялось и в институте колхозных собраний, которым колхозники, по крайней мере, до укрупнения хозяйств 1950-х гг., придавали большое значение. Колхозница В.М. Князева вспоминала: «Бывало, соберут колхозное собрание. Все люди придут на него. Выступит председатель, отчитается перед нами. Потом из ревизионной комиссии расскажут, сколько получили прибыли, куда её потратили. Отчитывались перед народом. А как же!» [13].
Большое значение во взаимоотношениях классов играло их «социально-генетическое» родство по деревенским корням, т.е. социальное происхождение и класса в целом, и большинства его представителей. Учитывалось, из каких социальных слоев формировался данный класс, являлись ли его представители своими, деревенскими жителями или городскими чужаками, прошедшими специальную подготовку с отрывом от деревенской среды (курсы, техникум, вуз, армия и т.д.). Как известно, деревенское сообщество с осторожностью относилось к чужим, особенно до эпохи активных миграций и аграрных реформ, «укрупнивших» прежние сельские социумы через совхозизацию и «оптимизацию» мелких колхозов (1950-е и более поздние годы). Поэтому социальные роли «деревенских начальников», воплощенных в лице колхозных председателей, совхозных директоров и управляющих, бригадиров, счетоводов, происходивших из крестьянской среды, были достаточно привычными в типах выстраивании взаимоотношений. В то же время «пришлые» требовали поиска иного дискурса социальных связей, что было трудным делом для земледельцев, привыкших к «простоте» языка и быта села. Колхозник из Кузбасса И.А. Шишков, в конце ХХ века рассказывая о первых годах существования колхозов, подчеркивал «иную
Доклады независимых авторов 2013 выпуск 24 ментальность» чужаков во власти: «Председателями колхозов становились присланные начальством люди. Наши мужики чувствовали землю. Но их до руководства колхозами не допускали. Они оказались не у дел. Им оставалось лишь выполнять приказы, работать и всё отдавать» [14]. Колхозница из Кемеровской области В.М. Князева (1914 г.р.) вспоминала: «Колхоз нам создавать приезжали люди из города. Мы к ним относились со страхом. Ведь не знали, что они задумали, что они делают, как жизнь нашу повернут?»[15].
Наибольшее число «пришлых» в полном смысле слова (т.е. живших и получавших образование вне села), по крайней мере, до середины 1960-х гг., было лишь среди сельскохозяйственных интеллектуалов (агрономы, зоотехники, ветеринары, экономисты, инженеры и т.д.), направлявшихся по распределению учебных заведений для работы в сельском хозяйстве. «Пришлость» чем дальше тем больше деревенскими жителями воспринималась положительно. Не нужно забывать о масштабных социальных перемещениях в российской деревне ХХ века, ставших обыденностью, в том числе в связи с Великой Отечественной войной. Вернувшиеся с войны или из армии мужчины очень часто становились деревенскими лидерами, их социальный опыт был очень уважаемым, о чем сообщалось в частушечной форме: «Милый мой в колхоз родной/ Возвратился старшиной/ Бережет он честь мундира/ Стал хорошим бригадиром»[16].
Недеревенское происхождение, городской опыт, цивильные манеры и внешний вид, что отмечалось в частушках, были значимыми основаниями социального превосходства одних слоев перед другими, такого опыта не имевшими:
Деревенские не в моде –
Нынче в моде писаря.
Комсомольцы да приезжие,
Еще учителя [17].
В колхозной деревне помнили происхождение человека как минимум до третьего колена, поэтому связи с «богатыми» или «бедными» предками были также значимыми. Если должность, особенно «властная», была наследственной – отец был председателем колхоза или бригадиром – это упрочивало положение представителя класса и делало его позицию более стабильной. В совхозах, особенно тех, что не были созданы на базе прежних колхозов, наследственность при вхождении в класс имела меньшее значение. Большим уважением пользовались представители колхозного или совхозного социума, шагнувшие в другой, более «высокий» социальный слой. Об этом тоже сохранилось множество частушек:
Мы с миленочком гуляли
У березы за прудом.
Был миленок темный парень,
А теперь он – агроном [18].
Пусть Ванюша не красив,
Но зато с характером.
Раньше был он пастухом,
Нынче пашет трактором [19].
Объемно-правовое положение очень специфично сказывалось на формировании классовой иерархии деревни. Статусы колхозника, рабочего или служащего различались весьма сильно, что проявлялось и в наличии/отсутствии паспорта, а, значит, свободе передвижения, возможностях трудоустройства, и в охвате системой крестьянских повинностей в 1930 – 1950-е гг., и в способах получения заработков (гарантированной, денежной заработной платы или «оплаты трудоднями») и др. Немаловажным фактором неравноправия были и «лично-поземельные узы», которые содействовали в передаче наследственной неполноправности, пока двор сохранял приусадебный земельный участок, и, следовательно, прикреплял колхозника к сельхозартели.
Об этих юридических различиях сельскохозяйственных классов многократно упоминается почти во всех произведениях писателей-деревенщиков (Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина, Б. Можаева и др.). Вот, например, показательный монолог рядового колхозника из повести Ф.А. Абрамова «Вокруг да около»: «Я человеком себя не чувствую, это ты понимаешь?... Я как баран колхозный, без паспорта хожу... А помнишь, я нынешней весной в город ездил?... И ты еще мне колхозную справку выписал?... Липовая это справка! Пришел я в сберкассу, сую эту самую справку в окошечко. А там кассирша крашеная, вся с головы до ног завита. Фыркнула: «Это не документ личности»… Почему у меня нет паспорта? Не личность я, значит, да?».
Юридическая дискриминация или юридические преференции сельских классов на разных этапах 1930 – 1980-х гг. проявлялась более всего во взаимоотношениях с государством, и гораздо меньше непосредственно в общественных внутридеревенских взаимоотношениях. Например, представители разных сельскохозяйственных классов нередко заключали брачные союзы, это даже приветствовалось с точки зрения практического выживания. В уже цитируемой повести Ф.А. Абрамова говориться об общепринятом в деревне 1940 – 1960-х гг. правиле: «В деревне сейчас принято: если ты в колхозе работаешь, то жену подыскивай из служащих, так, чтобы в доме всегда была копейка. После войны, когда произошла денежная реформа, это получило даже свое название: «жениться на буханке». Одним словом, если хорошенько вдуматься, складывается особый тип семьи, где экономический фактор играет далеко не последнюю роль».
Постепенно фактор правовых различий при формировании классовых отношений отходил на второй план, уступая ведущее место различиям в экономическом и производственном положении. Производственно-экономическая «притягательность» каждого из деревенских классов легко просматривается в частушках. Приведем некоторые из них.
На моем на белом платье
На оборке кружева.
Что же мне не наряжаться –
Бригадирова жена! [20]
Нам прислали инженера,
Мы влюбились горячо.
Он один, а нас четыре,
Присылайте нам еще [21].
Эй, подружка, морганем,
К нам подходит агроном,
Мы с тобой не растеряемся,
Знакомство заведем![22]
Бригадиры, трактористы, агрономы, инженеры – наиболее популярные представители классовых групп, отличавшихся, по деревенским меркам, стабильным материальным положением и завидным профессиональным статусом. Знакомство или родство с такими людьми, с точки зрения деревенских «низов» -представителей сельскохозяйственного пролетариата, – было значительным продвижением к более высокому социальному положению. С другой стороны, представители деревенской «верхушки» - председатели колхозов, директора совхозов, рассматривали их как более низкие по статусу классы. Показателен в этом отношении фильм С. Ростоцкого «Дело было в Пенькове» (1958 г.), где председатель колхоза был вовсе не в восторге от того, что его дочь вышла замуж за тракториста МТС.
О профессиональной принадлежности как основе социальной градации много писали уже советские социологи. В конце 1960-х гг. среди представителей этой науки сформировалось убеждение, что основным критерием выделения «групп внутри класса» является уровень квалификации, навыков и профессиональных знаний, на основе которого образуются «слои, различающиеся уровнем знаний, положением в производстве и уровнем заработной платы». По типу сложности труда социологи выделяли три основные группы: первая располагала, главным образом, физическими навыками, вторая – навыками и знаниями, третья, прежде всего, знаниями» [23].
Нельзя думать, что такое представление возникло в науке на пустом месте. Основой его являлась, в том числе, и ситуация восприятия трудовых операций, выполняемых представителями разных деревенских классов. При сохранении селянами представлений о физическом труде, как о мериле ценности человеческой личности, советское время все больше приближало колхозников и совхозников к мысли о том, что представители высших классов физической работы достаточно чужды. По этому принципу часто определялась и деревенская верхушка, хотя и со значительной долей осуждения. Так, в отношении 1930-х гг. писатель Т. Чугунов замечал: «многие колхозники физическим трудом не занимаются, начиная от председателя и кончая звеньевым. В колхозе около полусотни лиц принадлежат к администрации: председатель, его заместители, члены и служащие правления, заведующие фермами, руководители предприятий, бригадиры, звеньевые и т. п.»[24]. Кроме «сидения в конторе» у представителей колхозно-совхозной верхушки отмечался большой спектр властвования в отношении «низших» классов. Рассказы об этом уровне повседневности встречаются чаще всего. Вот как описывает подобный эпизод Ф. Абрамов в повести «Вокруг да около»: «По задворкам, мимо усадьбы Вороницыных, топали три бабы. С коробьями. Согнувшись пополам…. Бабы юркнули за угол бани. Не разбирая дороги, мокрым картофельником он [председатель колхоза – прим авт.] кинулся им наперерез, перемахнул изгородь. «Трудимся?» – он задыхался от бега и ярости. Бабы – ни слова. Мокрые, посинелые, будто распятые, они стояли, привалясь спиной к стене бани, и тупо глядели на него».
Если властвование представителей класса протобуржуазии было очень большим и распространялось на все жизненные проявления сельхозпредприятий, то властвование класса менеджеров (бригадиров и др.) было не таким всеохватным. Колхозница Т.А. Носкова говорила о колхозном бригадире: «У стада есть пастух, а у нас, колхозников, пастухом был бригадир. Ослушался бригадира - получи штраф: трудодней пять как снимет, не порадуешься»[25]. Писатель Т. Чугунов, описывая колхозного бригадира, обратил особое внимание на его «символы власти»: «Бригадир встречает запоздавших руганью и угрожающе размахивает палкой. Эта палка — символ его власти и постоянное оружие, подобно тому, как револьвер у председателя колхоза и сельсовета [26].
Большой новизной отличались и трудовые операции, выполняемые сельскохозяйственными интеллектуалами. Пожалуй, их функции, связанные с внедрением знаний в производственный процесс, были самыми новыми из всех видов деревенского труда. Не случайно в деревенских частушках даже чувствовался определенный восторг по поводу деятельности агрономов, ветеринаров и им подобных.
Я не буду чаю пить,
Не буду и заваривать,
Мне охота с агрономом
Нынче разговаривать[27].
Агроном рубашка белая,
Расшита васильком,
Мы науку агронома
Всем колхозом признаем [28].
«Низший» же класс деревни – сельскохозяйственный пролетариат воспринимался остальными жителями, и сам позиционировал свое место в социальной пирамиде как самое бесправное, подчиненное по отношению к высшим группам, страдательное по своей сути, с тяжелейшими трудовыми операциями. Вот как об этом пелось в южнорусских деревенских частушках начала 1930-х гг.:
Кто виноват, что в
Колхоз мы записались,
Кто виноват, что нам
Хлеба не дают,
Кто виноват, что мы
День и ночь работаем,
А пред. колхоза наш труд
Не признает [29].
В характеристиках классов большое значение имела гендерная составляющая. Так, представители «властных» классов, как правило, были мужчинами. Мужчины в основном составляли классы интеллектуалов и рабочей аристократии. Если же представителями этого класса становились женщины, деревенская молва отмечала данный факт как нечто не вполне обычное:
Наша Маша – трактористка,
А Наташа – агроном.
Мы теперь свое хозяйство
По-мичурински ведем [30].
И, напротив, представители «низших» деревенских классов имели «женское лицо». Что-то иное воспринималось как очень комичное и высмеивалось в весьма ироничных частушках:
У меня миленок есть,
Он колхозный птицевод.
Он гулять пошел со мной,
А за ним индюшек взвод [31].
Имущественные и производственные характеристики классов были гораздо более изменчивы, чем правовые категории. Юридические различия сельскохозяйственных классов в этой ситуации придавали консолидированность каждому из них и создавали более четкие границы между социальными кластерами деревни. При этом социальное размежевание между классами становилось более четким, а раскол между ними приводил к обострению классовых антагонизмов. Это размежевание явно видно на материалах народного фольклора и легко выявляется уже в частушках 1930 – 1950-хе гг., где описываемое действие группирует, как правило, представителей одной классовой группы. Так, «высшие» классы деревни – протобуржуазия и менеджеры – действуют совместно в разных бытовых ситуациях:
За мной трое, за мной трое,
За мной трое как один:
Председатель из колхоза,
Счетовод и бригадир [32].
Заместитель с бригадиром
Все дела направили:
На Ильинску пятницу
Похмелье вместе справили [33].
«Средние» классы деревни – интеллектуалы и рабочая аристократия – также объединены в частушечных сюжетах, представители данных классовых групп четко консолидированы внутри «своего» классового «клана»:
Я в работе боевая,
И в учебе всем пример.
Скоро буду агрономом,
Мой миленок – инженер [34].
Меня детка любит крепко
За походку быструю.
Эх, он будет комбайнером, А я – трактористкою.
Милый мой шофер отличный, С ним шофером стала я.
Возим хлеб стране любимой,
Засыпаем закрома [35].
В то же время нередкими были и сюжеты, где представители рабочей аристократии объединены в действиях с представителями класса сельскохозяйственного пролетариата. Это свидетельствует о том, что непосредственные физические трудовые усилия (даже при помощи механизмов) служили важным обстоятельством в представлении о близости этих классов:
Мой миленок тракторист,
Я – ударница полей.
Милый борется за трактор,
Я – за триста трудодней [36].
Большое количество частушек сюжетно объединяет представителей «низшего» класса – сельскохозяйственного пролетариата:
Ох, топну ногой,
Топну ноженькой.
Я – в колхозе, ты – в совхозе,
Мой хорошенький [37].
Экономические (возникающие и развивающиеся в процессе хозяйственной детальности индивидов) отношения чем дальше, тем больше воздействовали на всю социальную организацию деревни, в том числе на межклассовые отношения и на судьбу внутриклассовых образований. Все это настолько пронизывало ткань деревенской жизни, что становилось предметом своеобразного аналитического осмысления деревенскими жителями. Например, деревенская пекариха Пелагея (повесть Ф. Абрамова «Пелагея», 1969 г.) очень большое значение придавала выстраиванию деревенской иерархии, которая проявлялась, по ее мнению, в «приглашении в гости». Она отмечала, что собирающий гостей Петр Иванович, который «всю жизнь был на ревизиях» «худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета, да председатель колхоза… Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх…». Пелагея и ее муж, бывший бригадир колхоза, отметили, что «место им досталось неважное – с краю у комода и не на стульях с мягкой спиночкой, а на доске…» Но Пелагея и этим местом была довольна, настолько важно для нее было не выпасть из высшего слоя деревни.
Изменение межклассовых отношений во многом определяло и формирование имущественных прослоек. Не случайно в разного рода источниках отмечается «обеспечение» продовольствием и другими ресурсами приближенных, прежде всего, к высшим классам деревни. Так, в письме во ЦИК 1932 г., подписанным 62 (!)
колхозниками, сообщалось: «сами члены правления получают из гарнцевого сбора без всяких трудодней…Авансирование выдавалось не по трудодням, а какая личность понравиться» [38]. Писатель Т. Чугунов, повествуя о деревне 1950-х гг., отмечал: «Расхищение продуктов совхоза происходило в больших масштабах. Продукты питания из совхоза бесплатно брал директор для своей семьи, часто — для оравы своих родственников и приятелей, для совхозного начальства: секретаря партийной ячейки и руководителя профсоюзной организации» [39].
В определенной мере признавая такой порядок обеспечения имуществом, все же «высшие» деревенские классы осуждались в этом случае молвой:
Бригадирова жена
В шубу нарядилася,
Только вышла за калитку –
Сразу простудилася [40].
Обозлились на завхоза
Мыши нашего колхоза
Сам зерно злодей украл,
А за счет мышей списал [41].
Межклассовые отношения лежали в основе всех сторон социальной жизни деревни 1930 – 1980-х гг. Казалось бы, старое общество оставило русской деревне в наследство много привычного – наличие тех, кто управлял фискальной жизнью или трудом, тех, кто нес в нее просвещение и знание, тех, кто в основном работал на земле. Однако это сходство лишь поверхностное. Роли новых классов, а, следовательно, и их взаимодействие, были наполнены новым смыслом – смыслом ухода от традиционного крестьянского общества. Создание колхозов и совхозов, сокращение до минимума хозяйствования на своем подворье, сделало канвой социальных отношений села «обобществленную» производственную жизнь с вытекающими из этого особенностями обеспечения жителей ресурсами. Старая общинность была разрушена, ей на смену пришел тип связи внутри производственного коллектива крупного сельхозпредприятия. Экономические трансформации разрушили представление о социально однородном обществе – «Ладе» – утвердив иерархическую мультиклассовость сельской жизни и плюрализм классовых культур и ментальностей.
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 12-06-00088-а «Базы данных по аграрной истории Европейской России 1930-1980-х годов: опыт проектирования и интерпретаций»
-
1 См. подробнее об этих классах: Безнин М.А., Димони Т.М. Социальные классы в российской колхозно-совхозной деревне 1930-1980-х гг. // Социс. 2011. № 11. С. 90-102.
-
2 Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII – начало ХХ в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2 т. Т.1. СПб., 1999. С. 128.
-
3 Данилов В.П. Кулачество // Советская историческая энциклопедия. М., 1973—1982 ( http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/9021 )
-
4 Крапивенский С. Социальная философия. Волгоград, 1998. С. 123.
-
5 Лопатин Л.Н, Лопатина Н.Л. Коллективизация как национальная катастрофа . Воспоминания её очевидцев и архивные документы. Москва, 2001 г. (Использована электронная версия с адреса http://www.auditorium.ru/books/477/index.html)
-
6 Рабкина Н.Е., Римашевская Н.М. Перспективы изменения степени дифференциации душевых доходов семей колхозников в сравнении с городским населением (промежуточный отчет). М., 1971. С. 11.
-
7 Туторский А.В. Элементы общинных традиций в быту колхозной деревни: институт лидерства (по материалам Архангельской области)// Вопросы истории и культуры северных стран и территорий 2009. № 1.
-
8 Амальрик А. Нежеланное путешествие в Сибирь. New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1970. С. 164.
-
9 Белов В.И. Привычное дело // Белов В. И. Избранные произведения. Т. 2. М., 1983.
-
10 Голоса крестьян: Сельская Россия в крестьянских мемуарах. М., 1996. С. 25
-
11 Виноградский В. Крестьянские семейные хроники: репортаж с диктофоном на шее// Рефлексивное крестьяноведение: десятилетие исследований сельской России. М., 2002. С. 494.
-
12 http://www.hrono.ru/dokum/1929kol/kol041.html
-
13 Лопатин Л.Н, Лопатина Н.Л. Коллективизация как национальная катастрофа …
-
14 Там же.
-
15 Там же.
-
16 Лазутин С.Г. Русские народные лирические песни , частушки и пословицы. М., 1990. С. 219.
-
17 Частушки в записях советского времени. М. - Л., 1965. № 2099.
20 Там же. С. 259.
21 Гой еси Вы, добры молодцы. Русское народно-поэтическое творчество. М., 1979. С. 382 – 383.
22 Русская частушка. С. 345
23 Классы и социальные слои в СССР. М., 1968. С. 51 – 52.
24 Чугунов Т.К. Деревня на Голгофе. Мюнхен, 1967. С. 184.
25
26 Чугунов Т.К Указ. соч. С. 177.
27 Русская частушка. С. 435
28 Там же. С. 346.
29 «Летит орел по над морем…»: Частушки и песни 1930-х гг. о коллективизации на Кубани // Альманах «Россия. ХХ век». 2011,
30 Частушки Воронежской области. Записи 1949 – 1953 гг. Сост. С.Г. Лазутин. Воронежское кн. изд. С. 59.
31 Там же. С 108.
32 Там же. С. 121.
33 Подюков И.А., Свалова Е.Н. К проблеме описания колхозного фольклора Прикамья // Вестник Пермского университета. 2013. Вып. 1. С. 15.
34 Частушки Воронежской области. С. 78.
35 Русская частушка. С. 347.
36 Там же. С. 256.
37 Там же. С. 259.
38 Голод в СССР. 1929 – 1934: В 3 т. Т. 1: 1929 – июль 1932: Кн. 2. М., 2011. С. 83 – 84.
39 Чугунов Т.К. Указ. соч. С. 64.
40 Гой если, Вы, добры молодцы. С. 381.
41 Лазутин С.Г. Русские народные миры песни, частушки, пословицы. М., 1990. С. 114.