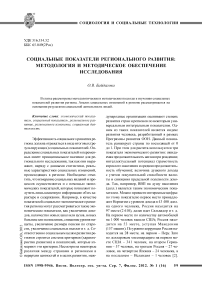Социальные показатели регионального развития: методология и методическое обеспечение исследования
Автор: Байдалова Ольга Васильевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 1 (16), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены методологические и методические подходы к изучению социальных показателей развития региона. Анализ социальных изменений в регионе рассматривается на основании результатов социальной деятельности людей
Экономический показатель, социальный показатель, региональное развитие, региональное изменение, социальная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/14974497
IDR: 14974497 | УДК: 316.334.52
Текст научной статьи Социальные показатели регионального развития: методология и методическое обеспечение исследования
Эффективность социального развития региона должна отражаться в виде итоговых (результирующих) социальных показателей. Определение социальных показателей и переменных имеет принципиальное значение для регионального исследования, так как они выражают, наряду с данными статистики, реальные характеристики социальных изменений, происходящих в регионе. Необходимо отметить, что измерение социальных явлений и процессов осуществляется и с помощью экономических показателей, которые позволяют получить лишь косвенную информацию об их характере и содержании. Например, в качестве показателей социально-экономического развития региона могут рассматриваться такие экономические показатели, как увеличение доходов, количество новых школ или вузов, новых больниц или поликлиник, снижение уровня нищеты, увеличение размера пенсии по старости, увеличение социальных выплат и т. д. Соответственно социальным целям развития регионов строится система критериев (характеристик развития) и показателей, которые измеряют эти критерии. Несмотря на некоторые различия между странами и регионами в иерархии ценностей и в целях развития, меж- дународные организации оценивают степень развития стран и регионов по некоторым универсальным интегральным показателям. Одним из таких показателей является индекс развития человека, разработанный в рамках Программы развития ООН. Данный показатель ранжирует страны по восходящей от 0 до 1. При этом для расчета используются три показателя экономического развития: ожидаемая продолжительность жизни при рождении; интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и средняя продолжительность обучения); величина душевого дохода с учетом покупательной способности валюты и снижения предельной полезности дохода. Так, например, ВВП на душу населения (долл.) является таким экономическим показателем. Можно привести интересные цифры: по этому показателю первое место принадлежит Норвегии с уровнем дохода в 43 400 долл. на одного человека, Россия находится на 97 месте (2 610), далее идет Сальвадор и т. д. На первом месте по количеству автомобилей на 1 000 человек вышли США; Россия находится на 53 месте, уступая Македонии (157 машин). По уровню коррупции Россия находится на 28 месте, на первом – Перу. Зато по долларовым миллиардерам на первом месте США – 341 человек, на втором Германия – 57 человек, на третьем Россия – 27 человек, на четвертом Япония – 24 человека, а на последнем – Исландия – 1 человек [2].
С точки зрения анализа социологического смысла социально-экономической эффективности происходящих в социуме изменений на первый план выходят содержание и характер социальной деятельности людей: уровень их культуры, образования, профессиональной подготовки, степень понимания стоящих перед ними задач, убежденность в их практической реализации, то есть человеческий фактор. Социальные показатели позволяют, во-первых, оценить степень возможности решения поставленных задач, во-вторых, получить информацию о социальных процессах побочного действия, то есть социальных изменениях, не предусмотренных управленческим решением, в-третьих, соотнести полученную итоговую информацию с данной социальной целью. В этих условиях перед социальным управлением региона встают принципиально иные задачи. Для того чтобы осуществлять управление регионом, его социальным развитием необходимо выделить группы показателей, характеризующих переменные, включенные в процесс функционирования социальной системы. Система экономических показателей, форм их проявления и механизмов действия позволяет приступить к решению основной методологической задачи – построению системы показателей социального развития. Обычно система экономических показателей социального развития подразделяется на следующие основные группы: народонаселение, трудовые ресурсы общества (их распределение и использование), национальное богатство, производство и обращение общественного продукта, рост национального дохода, материального благосостояния населения и т. д. (каждая из этих групп, в свою очередь, имеет соответствующие подгруппы). Как видно, эти показатели характеризуют в основном количественный уровень развития социальных процессов – социальную инфраструктуру, но качественного измерения они не обеспечивают. Экономические показатели (социальные индикаторы) в основном отражают рост материального и культурного богатства общества на уровне «среднестатистического индивида», позволяют осуществлять среднесрочное планирование только путем простой экстраполяции от достигну- того уровня и не в состоянии дать дифференцированную характеристику всех сложных изменений, характеризующих социальные процессы. В этом плане система социальных показателей выступает необходимым дополнением к социальным индикаторам и позволяет с научной достоверностью судить о конкретных условиях труда и быта человека и их влиянии на его поведение и деятельность, об отношении человека к условиям жизнедеятельности. Однако социальная эффективность экономических преобразований измеряется не только материальными затратами общества, но и содержанием и характером динамики потребностей, интересов и ценностных ориентаций различных социальных групп и слоев. Таким образом, социальные индикаторы и социальные показатели являются методологическими инструментами познания: первые с количественной, вторые с качественной стороны функционирования и развития социальных процессов.
Прежде чем операционализировать систему социальных показателей и переменных уместно обратиться к зарубежному опыту, в частности, к американской социологической школе, так как их эмпирический уклон в исследовании социальных процессов и явлений имеет давнюю традицию.
Американские социологи выработали системы показателей, которые позволяли давать надежные прогнозы социально-экономических и социально-психологических процессов, позволяя своевременно предотвратить негативные последствия или конфликты. К подобным разработкам относятся информационные системы, отображающие текущее соотношение факторов, которые характеризуют социально-демографическую динамику, разнообразные методики выявления «качества жизни», оценки достоинств и недостатков технологических и социальных нововведений, футурологические модели.
Спрос на методики социологической информатики, разрабатываемые в США, все время растет, а влияние этих методик быстро распространяется в других странах. В этом плане изучение американского опыта весьма полезно и актуально.
Важное, если не центральное, место в представлениях о предназначении информаци- онных систем занимает проблема информационного образа. Понятие информационного образа объединяет социальные показатели в единый смысловой комплекс. Это «конечный продукт» информационного анализа. Созданный образ активно влияет на общество, в том числе и в идеологическом плане. Поэтому изучение проблемы информационного образа и опыта получения такого образа в зарубежной социологии является одновременно научной и идеологической задачей.
Не менее актуально изучение источников социальной информации: социальной статистики, деловой документации, массово-коммуникативных, научных и художественных текстов. Во-первых, такие источники помогают представить структуру социальной информации, функционирующей в обществе, ее направленность. Во-вторых, в ходе изучения этих источников могут возникнуть новые представления об особенностях и тенденциях социальных процессов. К подобным источникам относятся официальные и официозные документы, разнообразные научные тексты, выступающие в качестве эталонов знания по важнейшим проблемам общественного развития, во многом предопределяющие структуру образов и, в известной мере, риторический стиль коммуникативной сферы. Например, американские прогностические разработки, связанные с мировыми энерго-экологическими и демографическими процессами (Э. Тоффлер, П.Дж. Бьюкенен). Анализ таких источников актуален для критики выводов и установок, исходящих от американской информатики, что невозможно без фундаментальной проработки наблюдаемых явлений.
В американской традиции оперирование с формальными социальными показателями восходит к В. Петти и связано с его концепцией «политической арифметики» [1, с. 27]. В 1850 г. в США высказывается мысль о необходимости «социальных оценок» [7, с. 839]. Следующим шагом в направлении к социальным показателям явилась ассимиляция концепции итальянского исследователя А. Ницефоро, который выдвинул идею «социальной симптомологии» [5, с. 238]. Само понятие «социальный показатель» возникло, по-видимому, в 1966 г. в изданной в США коллективной монографии «Социальные показатели» под редакцией Р. Бауэра [11, с. 241].
Какова наиболее характерная интерпретация понятия «социальный показатель»? Показатели следует брать в виде «временных серий», которые дают возможность сравнивать определенные периоды и выводить долгосрочные тенденции. В качестве наиболее удачного определения, позволяющего развивать представления об информационных функциях социальных показателей, приведем суждение американской исследовательницы Э. Карлисл. Социальным показателем, по ее мнению, является величина, допускающая операциональное определение в рамках какой-либо центральной концепции, предназначенной для создания информационной системы, описывающей социальную систему [11, с. 242].
В качестве инструмента информационного анализа социальные показатели применялись в сравнительных исследованиях, посвященных определению степени социальноэкономической развитости общества.
В США разработка социальных показателей лежала в основе одной из попыток формализованного подхода к общим проблемам социального управления. Инициаторами этих исследований были Х. Алкер, Р. Бендикс, А. Бэнкс, Г. Гецкоу, К. Дойч, Ф. Катрайт, X. Лассвелл, С. Липсет, Б. Рассет, Р. Руммель, Р. Текстор и др. [3; 4; 9], которые опирались на разработанную ранее в американской социологии концепцию сравнительных исследований. Так, Ф. Катрайт, основываясь на идее М. Вебера о сводимости отдельных характеристик социальных институтов в интегральную, поставил задачу разработать индекс институциональной развитости общества. Корреляционному анализу были подвергнуты 77 стран, представленных группой показателей, охватывающих сферы коммуникаций, урбанизации, экономического развития и распределения рабочей силы. Эти показатели сводились в показатели по каждой сфере, чтобы выявить их степень связи с политической и институциональной развитостью.
Как подчеркивает Катрайт, «коммуникационный показатель выражает способность и потребность нации в поддержании различных типов коммуникационных систем, зависящих от степени грамотности населения и уровня интеграции социально-экономических отношений». Он был образован суммированием на душу населения числа газетных изданий, единиц потребляемой печатной продукции, объема внутренней почтовой корреспонденции, численности телефонов [4, с. 37]. Его объяснительная и предсказательная функции оказались самыми высокими среди всех показателей.
Другой способ сопоставления государств на основе показателей лежит в основе проекта «Параметры наций» [9, с. 112]. В этом проекте, осуществленном в 1962 г., были впервые сформулированы некоторые критерии качества показателей. Показатели, по мнению авторов проекта, должны обладать следующими свойствами: а) быть пригодными для описания каждой нации; б) быть сопоставимыми; в) каждый главный показатель должен быть измерен на основе объективной шкалы; г) каждый главный показатель должен характеризовать особенность обозначаемой нации; д) набор главных показателей должен характеризовать различия между нациями.
Из 236 переменных, характеризующих 15 социальных сфер, по каждой избранной сфере выбирались главные показатели. Например, для сферы «экономическое развитие» главными показателями были: число телефонов на душу населения, валовой национальный продукт на душу населения, потребление энергии и т. д.
В сравнительном исследовании А. Бэнкса и Р. Текстора число характеризуемых сфер расширилось до 57. Как Ф. Катрайт, так и Г. Гецкоу, А. Бэнкс и Р. Текстор ставили задачу функционального описания развитости «национальной системы» посредством наборов показателей.
Что можно сказать по поводу такого определения развитости с помощью измеряемых показателей? В принципе постановка вопроса о численной оценке развитости того или иного общества правомерна, если указываются основания сравнения различных обществ. Однако численные технические характеристики коммуникационных средств, в лучшем случае, говорят о скорости и объеме передачи сигналов и ничего не говорят о содержании циркулирующих сообщений. Смысловая составляющая, ее идеологическая окраска или политические интересы остаются за границами социологического анализа.
Тем самым, при одном и том же общем объеме коммуникации типы коммуни- кации могут оказаться существенно различными. Это показывает принципиальную недостаточность исключительно количественных показателей и необходимость более глубокого семиотического анализа информационных источников.
Особо следует остановиться на социальных показателях образа жизни в информационных моделях.
В современной зарубежной практике отображения образа жизни и социально-экономического развития посредством систем показателей можно выделить два подхода: структурно-функциональный и культурологический. Первый характерен для американской социальной информатики и других зарубежных школ, идущих в фарватере соответствующей американской методологии, второй – преимущественно для европейских исследователей.
Наиболее развитой официальной информационной системой, отображающей функционирование образа жизни, является американская система «Социальные показатели». Подобные системы информации, опирающиеся на формальные процедуры, впервые начали разрабатываться в Соединенных Штатах в середине 60-х гг. в связи с глубокими изменениями в жизненном укладе, вызванными научно-техническим прогрессом.
Одним из последствий научно-технической революции был так называемый информационный взрыв. Количество данных и сведений, число научных, деловых, рекламных, радиотелевизионных развлекательных и справочных текстов чрезвычайно возросло. Вопросы информационного обеспечения приобрели практическую и в определенном смысле теоретическую злободневность. Так, в январе 1963 г. президенту США Дж. Кеннеди был представлен доклад директора Окриджской национальной лаборатории Вайнбергера «Наука, правительство и информация», в котором были суммированы мнения наиболее крупных специалистов по научной информации. В докладе, в частности, говорилось: «Наука в конечном счете может справиться с информационным взрывом, если только достаточное количество ее наиболее талантливых представителей будут приводить к компактной форме литературу, составлять обзоры, давать соответствующие интерпретации как для своего собственного пользования, так и для других ученых более узкой специализации. Комиссия считает, что такая деятельность может, в конце концов, занять в будущей науке положение, сравнимое с положением теоретической физики в современной физике» [6, с. 14]. Далее высказывалась мысль о необходимости создания информационных центров, в которых на основе существующих научных данных будет осуществляться синтез новых данных. В таких центрах поступающая информация должна подвергаться оценке в виде критических обзоров, монографий и сводок данных [8, с. 178].
Забота об информационном обеспечении отвечает как долгосрочным, так и текущим потребностям общества. Научная разработка этих проблем была сосредоточена в университетах и специальных организациях США. На повестку дня социологической теории встал вопрос об оснащении государственных служб обобщенными сведениями и оценками, которые показывали бы направленность, меру, вероятность, важность и альтернативность социальных явлений.
Это было методическим новшеством. В самом деле, статистики предлагают читателю наборы свободных данных, сгруппированных по отраслевому принципу, вне контекста событий, тогда как для социолога контекст является важнейшей эмпирической категорией. Информацией становятся не свободные данные, а лишь те, которые отражают связи с важнейшими прошлыми или наиболее вероятными будущими событиями. Именно здесь в пересечении ориентиров возникает возможность оценить явление, выработать по отношению к нему обоснованное суждение. «Мы не просто собираем информацию о людях, – подчеркивает Д. Танстолл. – Мы собираем информацию, которая отражает конечный результат» [12, с. 107].
Э. Шелдон и К. Лэнд дают следующую типологию показателей.
-
1. Описательные показатели конечного результата.
-
2. Показатели социальных условий изменения человеческого бытия.
-
3. Аналитические показатели выбора ценностей.
Система «Социальные показатели» состоит из 8 блоков, включающих 167 показа- телей : здоровье – 29 показателей, общественная безопасность – 23 показателя, образование – 20 показателей, труд – 28 показателей, доход – 24 показателя, жилище – 17 показателей, досуг – рекреация – 11 показателей, демография – 15 показателей.
«Выбор ценностей» играет основную роль в блоке «Труд» – это показатель № 17: качество трудовой жизни, показатель № 18 – удовлетворенность трудом по главным аспектам труда, № 19 – удовлетворенность трудом по отдельным характеристикам: возраст, пол, расовая принадлежность, заработная плата, служебное (трудовое) положение. Значения распределяются по шкале удовлетворенности от 0 до 4. Первичная информация выбирается путем опросов [12, с. 113].
Используемые показатели могут быть в разной степени агрегированы. В зависимости от этого они отражают уровни функционирования общества в конкретный момент времени: 1) общенациональный; 2) структурно-групповой; 3) среднеиндивидуальный. Совокупность показателей интерпретируется как система текущей социальной информации.
Система «Социальные показатели» аналогична по своим функциям существующей в США системе главных показателей экономической активности (General business indicators).
Главные экономические показатели представляют собой выборку данных о годовом и квартальном распределении валового национального продукта, например, по следующим группам.
-
1. Предметы длительного использования:
-
- автомобили и запасные части;
-
- мебель и домашнее оборудование.
-
2. Предметы краткосрочного использования:
-
- одежда и обувь;
-
- питание и напитки;
-
- бензин и нефтепродукты.
-
3. Услуги:
-
- домашнее хозяйство;
-
- жилище.
Эти показатели определяют стабильность экономической конъюнктуры. Выбор их основан на длительном наблюдении. Точно так же система социальных показателей строится на основе выборки данных, характеризующих стабильность социальной конъюнктуры. Отобранные данные рассматриваются как главные показатели стабильности социальных параметров общества. Опираясь на эти показатели, можно прогнозировать динамику социального развития региона.
Схема анализа эмпирического материала социальных изменений в регионе детерминируется характером социально-экономического процесса, о котором уже было сказано выше. На наш взгляд, показателем социальных изменений в регионе является социальное самочувствие населения. Индикатор, или переменная, связывает это состояние с факторами, его обусловливающими. Например, экономическая ситуация в регионе и в России в целом связана с факторами социальной стабильности, удовлетворенностью уровнем жизни, возможностью реализации личных интересов и потребностей в разных сферах жизни.
Многообразие социальной жизни – это многообразие условий жизни, социальных и профессиональных ролей, личностных характеристик. Определяя жизненную ситуацию респондентов, следует указать, к какому типу отношений – контексту ситуации – принадлежит данная эмпирическая наблюдаемая ситуация. Можно представить набор индикаторов, по которому строится индекс удовлетворенности жизненной ситуацией: 1) доход; 2) работа (деятельность); 3) семья; 4) образование; 5) здоровье; 6) обеспеченность товарами и услугами; 7) реализация культурных и социально-политических потребностей; 8) общение; 9) бюджет времени; 10) социальная стабильность; 11) личная безопасность и т. д.
Приведенный «внутренний набор» факторов, по которому следует исследовать социальную ситуацию в регионе и соответственно жизненную ситуацию респондентов, является общепринятым в социальной статистике. Этот факт, по-видимому, указывает на то, что в сфере ценностных отношений к образу жизни между обществом и индивидом существует глубокая социальная связь, или аналогия. То, что концентрированно описывает общество, оказывается ничем иным, как концентрированным, сокращенным описанием бытия индивида. Это означает также, что жизненные ситуации индивида дают представление о социальных ситуациях в обществе. Поэтому понятие «жизненная ситуация» является аналитически значимым как для актуальных социологических исследований, так и для исследования исторического процесса.
Жизненная ситуация индивидов находится в строгой корреляции с исторической эпохой, географическим и социокультурным регионом (как в нашем конкретном случае), типом производственной (рыночной) и семиотической деятельности, формами политической организации, отношениями собственности и правопорядка. Социальные универсалии выражают общие «межисторические» типы жизненных условий, тогда как их собственные элементы (например, удовлетворенность жизненной ситуацией, социальные настроения, социальное самочувствие) формируются бесконечным разнообразием социально и исторически соотнесенных, но каждый раз индивидуально неповторимых обстоятельств.
Методологические подходы к определению социальных показателей и переменных как субкатегорий социальных изменений в нашем регионе дают возможность для выработки стратегии и тактики управленческой практики и принятия управленческих решений в соответствии с реалиями сегодняшнего дня в контексте складывающегося культурно-экономического региона – Волгоградской области.
Список литературы Социальные показатели регионального развития: методология и методическое обеспечение исследования
- Петти, В. Экономические и статистические работы/В. Петти. -М., 1940. -324 с.
- По статистическим данным 2010 года журнала «Форбс», Мирового банка, РосБизнес-Консалтинг, TransparencyInternational, ЦРУ, WorldValuesSurvey [Электронный ресурс]. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: www.Nobelprize.org. -Загл. с экрана.
- Banks, A. A. Сross-Polity surwey/А. A. Banks, R. A. Textor. -Cambridge, 1963. -170.
- Cutright, P. National Political development: Measurement and analysis/Р. Cutright//American sociol. -1963. -Vol. 28, № 2.
- David, H. Social Indicators and Technology Assesment/Н. David//Futures. -1973. -Apr.
- Directory of Federally Supported Information analysis centres. -Washington, 1968.
- Hauser, Ph. M. Social accounting/Ph. M. Hauser//The Uses of Sociology/ed. by P. F. Lazarsfeld [et. al.]. -1967. -№ 4. -Р. 839-875.
- Land, K. Social indicator models. An overview/К. Land//Social indicator models/ed. by K. C. Land, S. Spilerman. -N. Y., 1975.
- Rummel, R. I. The Dimensions of Nations/R. I. Rummel. -L.: Washington. -268 p.
- Science, goverment and information. A Report of the President: Science Advisory Committee. -Washington, 1963. -268 p.
- Social Indicators/ed. by B. Dauer. -Cambridge, 1966. -241 p.
- Tunstail, D. Developing a social statistics publication/D. Tun stail//Oceedin gs of the social statistics section 4970/Amer i -can statistical association, US Depar t -ment of Commerce. -Wash ington, 1970. -P. 107-113.