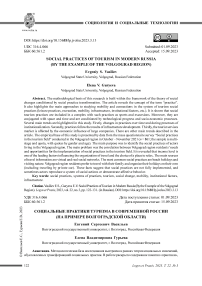Социальные практики туризма в современной России (на примере Волгоградской области)
Автор: Васильев Е.С., Гурьева Е.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Методологическая база исследования выстроена в рамках теории социальных изменений, обусловленных трансформацией социальных практик. В работе раскрыто содержание понятия «практики», освещены основные подходы к исследованию мобильности, выделены связки в системе социальных практик туризма (практики досуга, отдыха, мобильности и др., инфраструктура, институциональные факторы). Показано, что социальные практики туризма включены в комплекс с такими практиками, как спорт, экскурсии, привязаны к пространству и времени, обусловлены техническим прогрессом и социально-экономическими процессами. Выделены основные тренды в исследовании социальных практик туризма: изменение практик во времени, в процессе институционализации, по итогам развития инфраструктуры, под влиянием экономических интересов крупных субъектов рынка туристских услуг и др. Эмпирическая база исследования представлена данными массового анкетного опроса «Социальные практики в сфере туризма», проведенного в Волгоградской области в октябре - ноябре 2021 года (n = 861, выборка многоступенчатая, квотная, с квотированием по полу и возрасту). Основная цель исследования - выявление социальных практик туризма акторов, проживающих в Волгоградской области. Основная проблема - это соотнесение потребностей и возможностей жителей Волгоградской области для реализации социальных практик в сфере туризма. Выявлено, что уровень дохода является одним из ведущих факторов, влияющих на организацию путешествия и выбор места для отдыха; основным источником информации о путешествиях являются Интернет и социальные сети; самые распространенные социальные практики - пляжный отдых и посещение природных объектов. Жители Волгоградской области предпочитают путешествовать с семьей, самостоятельно организовывать отдых, в том числе на личном автомобиле, что позволяет утверждать, что социальные практики реализуются не в полной мере, а в некоторых случаях акторы воспроизводят систему социальных действий или демонстрируют аффективное поведение.
Социальные практики, системы практик, туризм, социальные изменения, мобильность, институциональные факторы, инфраструктура
Короткий адрес: https://sciup.org/149145051
IDR: 149145051 | УДК: 316.4.066 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.3.13
Текст научной статьи Социальные практики туризма в современной России (на примере Волгоградской области)
DOI:
Исследования сферы туризма широко представлены междисциплинарными проектами, поскольку комплексный анализ социологических, экономических, организационных проблем позволяет подробно описать современные тренды. Специфика социологического подхода в том, что туризм рассматривается в контексте социальных изменений. Большой вклад в исследование туризма как социокультурного феномена, трансформация которого является индикатором социальных изменений, внес З. Бауман. Используя понятия «идентичность», «модерн», «постмодерн» и др., он показывает, как меняются целеполагание и потребности акторов (паломник, фланер, бродяга, игрок, турист) [Бауман 1995], перемещающихся в пространстве. З. Бауман говорит, что подобно бродягам, туристы находятся в движении – всюду вхожи, но нигде не свои, потому что пространство для «политически неполноценных постмодерновских индивидов» должно быть приятным, проносить удовольствие и восхищение [Бауман 1995]. З. Бауман солидарен с Ж.-Ф. Лиотаром в том, что объекты потеряли содержание, в мире постмодерна важно, как выжать из мира как «склада занимательных объектов» как можно больше развлекательного [Lyotard 1993].
Выводы З. Баумана и Ж.-Ф. Лиотара применимы не ко всем социальным сообществам, а только к тем, где установлен гарантированный отпуск и экономическое положение населения позволяет путешествовать. В то же время именно в исследованиях туризма, как феномена современного мира, на институциональном уровне можно легко зафиксировать социальные изменения, найти теоретические и эмпирические индикаторы измерения пространства, мотивации акторов и др. Важны для исследования социальных трансформаций и туризма идеи Дж. Урри, он говорит о «сжатии пространства», «производстве и потреблении мест», «глобализации» произошедших в результате появления новых технологий [Урри 2005]. Появление у актора, как субъекта принятия решений, потребности перемещаться в пространстве обусловлено следующими процессами. Во-первых, техническим прогрессом – развитие транспортной инфраструктуры влияет на мобильность акторов, сокращаются временные затраты на перемещение; информационные и цифровые технологии упрощают коммуникацию, растет информированность об уровне безопасности и имеющейся инфраструктуре в пространствах, которые интересны актору и т. д. Во-вторых, если рассматривать туриста как объект, важны социально-экономические и политические процессы, связанные с реализацией интересов таких субъектов как государство, бизнес, индивидуальные предприниматели, имеющих выгоды от расширения сферы туризма (от получения прибыли до реализации концепции «мягкой силы» [Wilson III 2008]).
Идея взаимообусловленности социальных изменений – научным прогрессом, институционализации – экономическим ростом не нова, но до конца остается не проясненным вопрос о том, как конструируются и изменяются социальные практики акторов, в нашем случае туристов: под влиянием внутренних потребностей или институционального давления? Дискуссии, раскрывающие понятие «социальные практики», начали формироваться в работах П. Бурдье [Бурдье 2001], Э. Гидденса [Гидденс 2005] и др. Как отмечает П. Бурдье, «практика не подразумевает (или исключает) овладения выраженной в ней логики» [Бурдье 2001, с. 28]. В этом отличие понятий «практика» и «действие», последнее, в терминологии М. Вебера, является: осмысленным (целерациональным, ценностно-рациональным); осмысленным не в полной мере (традиционным) или аффективным [Вебер 2021].
Социологический анализ понятия «социальные практики» представлен в обзорной статье, подготовленной в рамках международного исследовательского проекта [Klitkou et al. 2022]. Теоретические рамки исследования социальных практик в современной социологии значительно расширяются, в дискурс включаются новые понятия, строятся теоретические модели, позволяющие описать динамику социальных изменений. А. Клиткоу, С. Болвиг с коллегами показывают, что социальную жизнь можно рассматривать как сеть взаимосвязанных видов деятельности, которые вместе образуют практические «комплексы», «договоренности» или «связи» [Klitkou et al. 2022]. Рассматривая практики как бо- лее или менее успешные, акторы выбирают, в итоге определенные практики приобретают или теряют значение, так как организованы и связаны друг с другом в пространстве и времени. Временные структуры и последовательность событий определяют социальные практики как коллективные. Исследователи показывают, что такие социальные практики в сфере труда и занятости как рабочее время, выходные, отпуск действуют не изолированно, а взаимосвязаны. Для описания этой взаимосвязанности социальных практик использовалось множество терминов: комплексы, системы, сети и нексус и др. [Klitkou et al. 2022].
В качестве связок и комплексов практик можно рассматривать взаимообусловленность практик отдыха, развлечения, проживания и др. и туристских объектов. Связка практик в тоже время включена в комплекс времени-пространства, обязательными элементами которых являются гостиницы, культурные и/или природные объекты и др. Можно разделить связки практик – планирование путешествия, реализации и возвращения из путешествия. Так практики подготовки к отдыху в туристических объектах включает в себя связку следующих практик: выбор объекта, планирование расходов и доходов, перемещение в пространстве и т. д.
Понятие «системы практик» было предложено М. Уотсоном [Watson 2012], чтобы в рамках исследования инфраструктуры, транспортной системы социотехнических систем (автомобилестроение, скоромобиль-ность и др.) описать как меняются практики по мере технического прогресса. Концепция системы практик направлена на то, чтобы одновременно определить, насколько практики встроены в отношения, как соотносятся с другими практиками и с системными элементами, включая инфраструктуру, технологии, правила, нормы и значения, которые эти практики составляют и поддерживают. Динамика практик не может быть сведена к их реконфигурациям, но может рассматриваться системно – в связи с другими практиками, что позволяет понять, насколько система практик устойчива.
Туризм мы относим к практикам мобильности, что позволяет ставить туризм в связку с такими практиками как занятия спортом, экскурсии, досуг и привязывать их к пространству и времени – туры короткого дня (в выходные дни); путешествия на большие расстояния (отпуск, частичная или дистанционная занятость). Например, транспортная практика езды на велосипеде для обследования природных или культурных объектов оценивается в системе – воспроизводство связанных практик и комплекс туристских объектов, их обеспеченность инфраструктурой (наличие велосипедных дорожек, доступ к ним и др.). Рассматривая транспортные практики как часть практик мобильности, мы исследуем соотношение отдыха и мобильности, туризма и мобильности, оцениваем время и расстояние, а также наличие у населения ресурсов, чтобы эти расстояния преодолеть – пешие путешествия, на личном транспорте (велосипеде, автомобиле), на общественном транспорте (автомобильном, железнодорожном, воздушным).
Практики мобильности связаны не только с досугом, но и с командировками по работе, поддержанием семейно-родственных отношений или хлопотами по содержанию имущества при наличии в собственности нескольких объектов недвижимости. Таким образом, практики мобильности тесно взаимосвязаны с материальным благополучием человека, обеспечением комфортных и безопасных условий для перемещения в пространстве, возможностями и потребностями совмещать деловые поездки с посещением туристских объектов. Напротив, туристские объекты, расположенные в неблагополучных районах, могут снижать мобильность, вызывая беспокойство и дистресс, поэтому важным социокультурным и социально-архитектурным фактором становиться спрос на комфорт, чистоту и удобство жилищ, в соответствии с концепцией Дж. Урри.
Можно выделить несколько трендов в исследования туризма в России – О.В. Лы-сикова отмечает, что туризм после 1990-х гг. утратил социальную ориентированность и приобрел коммерческий характер и описывает эволюцию культурных практик туризма [Лысикова 2012; 2016; 2022]; О.Ю. Зевеке И.М. Карицкая, Т.Г. Тырина рассматривают туризм как социальный институт и связывают социальные изменения с процессом ин- ституционализации [Карицкая 2011; Тырина, Зевеке 2017]; Н.Е. Покровский, Т.И. Черняева – анализируют практики культурной миграции по итогам виртуального поиска акторами идентичности [Покровский, Черняева 2010]; Е.С. Васильев, Е.В. Гурьева – исследуют какие факторы повлияли на трансформацию социальных практик и туристской инфраструктуры [Васильев, Гурьева 2020], что особенно актуально в связи с утверждением Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 [Стратегия… web]. Эмпирические исследования практик туризма в России представлены в архивах и новостных лентах, доступных на сайтах Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда общественного мнения (ФОМ) [ВЦИОМ… web; Внутренний… web].
Индикаторы социальных практик туризма
Всероссийские исследования дают общий срез социальных практик туризма, что не исключает значимости региональных срезов общественного мнения, так как место жительства акторов существенным образом влияет на их социальные практики путешествий (например, среди жителей центральной и юга России не распространены практики отдыха в Камчатском крае и др.). Разорванность освоения пространства существенно трансформирует его восприятие, не позволяет конструировать общие для россиян смысловые паттерны. Мобильность туристов зависит от материального благополучия, транспортной доступности разных маршрутов и т. д. Указанные факты позволяют сделать вывод о необходимости региональных исследований социальных практик туризма, так как потребности и возможности акторов существенно отличаются в зависимости от постоянной локации.
Целью нашего исследования является описание социальных практик туризма акторов, проживающих в Волгоградской области. Основные выводы сформулированы на основе данных массового анкетного опроса «Социальные практики в сфере туризма», проведенного в Волгоградской области в октябре-ноябре 2021 года (n = 861, выборка многоступенчатая, квотная, с квотированием по полу и возрасту). Инструментарий исследования состоял из анкеты, включающий вопросы, позволяющие описывать системы социальных практик – собственно практик мобильности (путешествия на личном автотранспорте); связь практик деловых поездок с посещением туристских объектов (командировки); доступность оздоровительного туризма, организованного отдыха (в России, в регионе); оценка инфраструктуры, информированность о институциональных ресурсах развития туризма в России; практики подготовки к отдыху.
Практики туризма, как мы отмечали выше, подразделяются на практики планирования путешествия и реализации путешествия. Планируют путешествие по России 79,9 %, при этом 70,4 % не пользуются туристскими услугами; 60,1 % планируют путешествие по Волгоградской области, в том числе 55,2 % организуют путешествия самостоятельно (табл. 1).
Организуя самостоятельные путешествия, акторы ищут информацию в сети Интернет (70,6 %) или через знакомых и друзей (63,3 %) (табл. 2). Следовательно, наиболее эффективный способ получения информации о туристических объектах и практиках – совокупность данных из Интернет-источников и знакомство с опытом знакомых и друзей, что активно реализуется в онлайн и офлайн социальных сетях. При принятии окончательного решения об отдыхе для жителей Волгоградской области самой значимой является стоимость отдыха, что отметили 65,2 % респондентов; климат и погодные условия – 46,2 %; рекомендации знакомых и друзей (39,1 %) и уровень сервиса и обслуживания (35,1 %).
Выявлено, что для жителей Волгоградской области туристические поездки не стали распространенной практикой: 40,3 % путешествуют с целью туризма реже двух раз в год. Большое влияние на интенсивность туристических поездок оказала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, а именно привела к увеличению доли акторов, которые путешествуют с целью туризма реже двух раз в год на 12 %. Доля тех, кто путешествует ежегодно снизалась из-за пандемии не существенно (с 37,6 до 31,1 %), доля тех, кто путешествует два-три раза в год – на 6,5 % (см. табл. 3). Из полученных данных следует вывод, что во время пандемии частота туристических поездок заметно сократилась для тех, кто путешествует редко, тех у кого потребность в путешествиях высокая – изменились стратегии путешествия, в том числе они сразу же воспользовались возможностью выехать на отдых, когда ограничения на передвижения были смягчены или отменены.
Результаты исследования показывают, что жители Волгоградской области преимущественно оценивают свои материальные
Таблица 1
Ответы на вопрос: «Как Вы планируете путешествие?
|
Вариант ответа |
По России |
По Волгоградской области |
||
|
частота |
% |
частота |
% |
|
|
Не путешествую |
161 |
18,7 |
333 |
38,7 |
|
Покупаю экскурсионный тур |
82 |
9,5 |
42 |
4,9 |
|
Планирую самостоятельно (и проезд, и проживание, и питание) |
606 |
70,4 |
475 |
55,2 |
|
Затрудняюсь ответить |
12 |
1,4 |
11 |
1,3 |
|
Итого |
861 |
100 |
861 |
100 |
Таблица 2
Ответы на вопрос: «Из каких источников Вы получаете информацию о туризме» (можно выбрать несколько вариантов, но не более 2)?
|
Вариант ответа |
% |
|
Интернет |
70,6 |
|
От знакомых и друзей |
63,3 |
|
Телевидение |
25,4 |
|
Менеджер в туристической фирме |
12,2 |
|
Из газет и журналов |
9,8 |
|
Реклама на улице |
5,5 |
возможности для совершения туристических поездок «удовлетворительно» (43,8 %) и «хорошо» (34,1 %), что обусловлено объективными причинами – не высокими доходами большей части населения (табл. 4). Доход определяет материальные возможности респондентов совершать туристические поездки, показательно, что даже среди акторов с низкими доходами – менее 20 тыс. руб. на человека – некоторые респонденты совершают туристические поездки, однако, такие практики нельзя отнести к системе, так как они требуют осмысления, не являются типичными для данной категории населения.
Практики мобильности представлены на основе ответов на вопрос: «Вы путешествуете в качестве пассажира или водителя на личном автомобиле (не на общественном транспорте)?» Положительные ответы получены от 77,4 % респондентов, в том числе 46,6 % – путешествуют по Волгоградской области; 48,4 % – по России; 7,4 % – выезжали за гра- ницу (можно было выбрать все варианты мобильности). Посещение туристических объектов во время командировок нельзя назвать распространенной практикой – 48,1 % не бывают в служебных командировках (возможно, в результате развития дистанционных технологий деловая мобильность будет поступательно снижаться); 23,8 % – редко в командировках посещают туристические объекты; 16,3 % – заранее планируют посетить достопримечательности; 6,9 % – не имеют в командировках свободного времени на туризм; 5 % – посещают туристические объекты по приглашению принимающей стороны.
Наиболее востребованные туристические объекты, практики посещения которых распространены: 49,2 % – море; 40 % – кафе и рестораны, где можно попробовать экзотическую или местную кухню; 38,9 % – озера, леса, рощи; 38,5 % – магазины; 35,7 % – горы; 33,9 % – парки культуры с каруселями и другой инфраструктурой; 25,9 % – церкви и монастыри;
Таблица 3
Ответы на вопрос: «Как часто Вы совершали туристические поездки?»
|
Вариант ответа |
До пандемии |
В период и после пандемии |
||
|
частота |
% |
частота |
% |
|
|
один раз в два года и реже |
347 |
40,3 |
450 |
52,3 |
|
один раз в год |
324 |
37,6 |
268 |
31,1 |
|
два-три раза в год |
137 |
15,9 |
81 |
9,4 |
|
более четырех раз в год |
41 |
4,8 |
31 |
3,6 |
|
затрудняюсь ответить |
12 |
1,4 |
31 |
3,6 |
|
Итого |
861 |
100,0 |
861 |
100,0 |
Таблица 4
Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете свои материальные возможности для совершения туристических поездок?»
(в зависимости от уровня дохода в месяц на 1 члена семьи)
|
Самооценка материальных возможностей |
Укажите Ваш уровень дохода, тыс. руб. |
Итого |
||||||
|
от 150 |
от 100 до 150 |
от 50 до 100 |
от 20 до 50 |
менее 20 |
З/О |
|||
|
отлично |
Частота |
7 |
4 |
16 |
15 |
7 |
– |
49 |
|
% |
25,0 |
9,1 |
13,1 |
4,2 |
2,4 |
– |
5,7 |
|
|
хорошо |
Частота |
13 |
24 |
61 |
140 |
47 |
9 |
294 |
|
% |
46,4 |
54,5 |
50,0 |
39,7 |
16,0 |
42,9 |
34,1 |
|
|
удовлетвори-тельно |
Частота |
8 |
14 |
41 |
172 |
130 |
12 |
377 |
|
% |
28,6 |
31,8 |
33,6 |
48,7 |
44,4 |
57,1 |
43,8 |
|
|
плохо |
Частота |
– |
2 |
4 |
26 |
106 |
– |
138 |
|
% |
– |
4,5 |
3,3 |
7,4 |
36,2 |
– |
16,0 |
|
|
затрудняюсь ответить |
Частота |
– |
– |
– |
– |
3 |
– |
3 |
|
% |
– |
– |
– |
– |
1,0 |
– |
0,3 |
|
|
Итого |
Частота |
28 |
44 |
122 |
353 |
293 |
21 |
861 |
|
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
24,4 % – дворцы и дворцовые парки; 20,9 % – археологические объекты; 19,9 % – музеи изобразительного искусства; 18,4 % – театры; 16,9 % – спортивные площадки (каток, лыжная трасса и т. д.); 14,1 % – спортивные мероприятия; 10,2 % – ночные клубы. Респонденты отметили, что никогда не посещают ночные клубы (43,9 %), спортивные мероприятия (30,5 %), спортивные площадки (28,1 %), театры (26,4 %), церкви и монастыри (25,0 %), музеи изобразительного искусства (24,6 %), археологические объекты (23,7 %), дворцы и дворцовые парки (21,8 %). Можно констатировать, что доступность санаторно-курортного отдыха в Волгоградской области низкая (табл. 5).
Для более детального рассмотрения социальных практик туризма жителей Волгоградской области респондентам задали вопросы о предпочитаемом виде отдыха, ответы на которые представлены в таблице 6. Самым популярным видом отдыха среди населения Волгоградской области является пляжный (69,6 %), после него следуют экскурсионный (55,7 %), рекреационный (31,5 %), промысловый (27,1 %) и экстремальный (17,7 %). Кроме того, данные о низкой востребованности отдыха с целью лечения и оздоровления дополняются данными о практике посещения санаториев (см. табл. 5) – 61,1 % респонден- тов ни разу не посещали санатории, но 27,8 % из них планируют посещение санаториев. В целом, для населения Волгоградской области наиболее привлекательными являются природные объекты, где присутствует возможность осуществления пляжного отдыха, который был отмечен респондентами как самый популярный. Следовательно, облагораживание и развитие природных территорий приведет не только к увеличению туристического потока, но и к повышению удовлетворенности путешествием самих туристов.
По результатам исследования были получены результаты, демонстрирующие, что жители Волгоградской области предпочитают отдыхать с семьей – 79,2 %; с друзьями – 37,3 %; самостоятельно – 22,1 %. Среди тех, кто предпочитает отдыхать самостоятельно или с друзьями (24,2 % и 24,6 % соответственно) наибольший процент ответивших – молодежь в возрасте 26–35 лет. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет стремятся отдыхать с друзьями (16,5 %).
Жители Волгоградской области чаще планируют краткосрочные поездки: 40,7 % проводят в путешествии от 5 до 10 дней; 31,5 % – от 1 до 5 дней; 21,3 % – от 10 до 14 дней; только 6,5 % – отдыхают больше двух недель (что связано с практикой деления отпуска на части, в том числе в интересах работодателя).
Таблица 5
Ответы на вопрос: «Посещаете ли Вы санатории?»
|
Вариант ответа |
Частота |
% |
|
Да, посещал за свой счет |
178 |
20,7 |
|
Да, посещал, стоимость частично или полностью компенсировал профсоюз |
93 |
10,8 |
|
Да, получал санаторно-курортное лечение бесплатно по программе государственной и социальной |
64 |
7,4 |
|
Нет, ни разу не посещал, но планирую |
239 |
27,8 |
|
Нет, ни разу не посещал, не планирую |
287 |
33,3 |
|
Итого |
861 |
100,0 |
Таблица 6
Ответы на вопрос: «Какой вид отдыха Вы предпочитаете?» (можно выбрать несколько вариантов, но не более 3)
|
Вариант ответа |
Частота |
% |
|
пляжный |
599 |
69,6 |
|
экскурсионный |
480 |
55,7 |
|
лечение, оздоровление |
271 |
31,5 |
|
промысловый (рыбалка, охота) |
233 |
27,1 |
|
экстремальный (альпинизм, сплав по реке) |
152 |
17,7 |
Практики аренды жилья во время отдыха следующие (можно было выбрать несколько вариантов ответа): 26,7 % – проживают в гостиницах, отелях; 15,9 % – в хостеле; 51,9 % – у физических лиц. У родственников проживают 40,4 %. Проживание на отдыхе у респондентов из различных по обеспеченности групп населения отличаются. Потребители, имеющие доход более 100 тыс. руб. на 1 члена семьи в месяц, предпочитают во время отдыха жить в отелях, имеющих 4–5 звезд. Респонденты с ежемесячным доходом от 20 до 100 тыс. руб. на 1 члена семьи чаще арендуют жилье у физических лиц (60,9 %); респонденты с ежемесячным доходом менее 20 тыс. руб. на 1 члена семьи предпочитают останавливаться у родственников (37,4 %) или арендовать жилье у физических лиц (30,2 %).
Кроме того, респондентов опрашивали об опыте туризма в Волгоградской области. При ответе на открытый вопрос «Укажите, пожалуйста, в каких туристических местах Волгоградской области Вы были?» самыми популярными местами для посещения в Волгоградской области стали Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (его назвали 433 респондента), Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь (56 респондентов), Музей заповедник «Сталинградская битва» (41 респондент), также указывали такие объекты туристического внимания как Дом Павлова, исторические и природные памятники городов Дубовка, Калач-на-Дону, Камышин, Урюпинск, Озеро Эльтон (крупнейшее минеральное озеро Европы, расположенное в Волгоградской области). Наиболее количество путешествий в другие регионы России осуществляется жителями Волгоградской области в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Основные выводы
В Волгоградской области социальные практики туризма воспроизводятся частично. В результате в социуме не формируются безусловные связки и комплексы практик отпуска и туризма, отдыха и путешествий и др. Не все туристы проживают в туристских объектах (гостиницах, хостелах), многие акторы, в связи с неблагоприятным материаль- ным положением, проживают у родственников. Тревожным фактом является то, что большая доля населения, в том числе старшего возраста, не имеет ресурсов для организации отдыха в санаториях. В итоге, не все обязательные элементы включены в социальные практики туризма жителей Волгоградской области, например, из них часто исключены гостиницы, не полностью включены культурные объекты (например, только 18,4 % посещает театры; 16,9 % – спортивные площадки; 14,1 % – спортивные мероприятия и др.).
Системы практик туризма в группах населения с высокими доходами встроены в отношения, соотносятся с практиками отдыха и системными элементами, для таких акторов важна инфраструктура, социальные услуги. Напротив акторы со средними и низкими доходами сами планируют путешествия, что осуществляется с использованием социальных сетей, а также самостоятельного поиска информации в сети Интернет. Часто в путешествия туристы отправляются на собственном автомобиле, сами бронируют и арендуют жилье у частных лиц. Динамика практик не устойчива, что показывают результаты исследования частоты совершения туристических поездок до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и после.
Рассматривая практики мобильности, следует констатировать, что мобильность населения Волгоградской области полностью еще не сформирована, на это влияют не только экономическая ситуация, материальное благополучие, дефицит времени (больше всего востребованы путешествия на 10–14 дней), но и установки акторов, например, большая доля респондентов, которые ездят в командировки, не выделяет время на посещение туристических объектов. Следовательно, в некоторых случаях по отношению к респондентам необходимо говорить не о реализации социальных практик туризма и мобильности, которые тесно взаимосвязаны, а о социальных действиях, осмысленных и тщательно планируемых, что обусловлено материальными трудностями для организации путешествия. А в некоторых случаях наблюдается аффективное поведение, если путешествия реализуется в небезопасных, неблагоприятных условиях (например, в период пандемии).
Список литературы Социальные практики туризма в современной России (на примере Волгоградской области)
- Бауман 1995 – Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. 1995. № 4. С. 133–154.
- Бурдье 2001 – Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001.
- Васильев, Гурьева 2020 – Васильев Е.С., Гурьева Е.В. Средства размещения как фактор развития туристского потенциала территории // Logos et Praxis. 2020. Т. 19, № 4. С. 33–41.
- Вебер 2021 – Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4 т. Т. 1. Социология. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2021
- Внутренний… web – Внутренний туризм: опрос ФОМ // https://fom.ru/Obraz-zhizni/14908
- ВЦИОМ… web – ВЦИОМ: Тематический каталог.
- Туризм, путешествия // https://wciom.ru/tematicheskii-katalog/page-2?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=64&cHash=7350e79832d7c0f4dc7c21a18a57ebbc
- Гидденс 2005 – Гидденс Э. Устроение общества: Очерки теории структурации. М.: Академический проект, 2005.
- Карицкая 2011 – Карицкая И.М. Туризм как социальный институт // Идеи и идеалы. 2011. Т. 2, № 2. С. 9–14.
- Лысикова 2012 – Лысикова О.В. Российские туристы: типы идентичности и социальные практики // Социологические исследования. 2012. № 4 (336). С. 136–143.
- Лысикова 2016 – Лысикова О.В. Туристические практики жителей Саратовской области в 1930–1980-е годы: социальные изменения пространственной мобильности // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2016. № 3 (11). С. 82–88.
- Лысикова 2022 – Лысикова О.В. Этнокультурный туризм в контексте социальных изменений практик туристов и путешественников // Сервис plus. 2022. Т. 16, № 1. С. 3–14. DOI: 10.24412/2413-693X-2022-1-3-14
- Покровский, Черняева 2010 – Покровский Н.Е., Черняева Т.И. Современный туризм и конструирование реальности // Покровский Н. Е. (ред.). Виртуализация межуниверситетских и научных коммуникаций: методы, структура, сообщество. М.: СоПСо, 2010. С. 137–140.
- Стратегия… web – Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года : утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р // http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.pdf
- Тырина, Зевеке 2017 – Тырина Т.Г., Зевеке О.Ю. Концептуальная модель развития туризма в Московской области // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 2, № 1. С. 50–54.
- Урри 2005 – Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация // Массовая культура: Современные западные исследования. М.: Прагматика культуры, 2005. С. 136–150.
- Klitkou et al. 2022 – Klitkou A., Bolwig S., Huber A., Ingeborgrud L., Pluciсski P., Rohracher H., Schartinger D., Thiene M., Їuk P. The Interconnected Dynamics of Social Practices and Their Implications for Transformative Change: A Review // Sustainable Production and Consumption. 2022. Vol. 31. P. 603–614. DOI: 10.1016/j.spc.2022.03.027
- Lyotard 1993 – Lyotard J.-F. Moralités postmodernes. Paris: Galilée, 1993.
- Watson 2012 – Watson M. How Theories of Practice Can Inform Transition to a Decarbonised Transport System // Journal of Transport Geography. 2012. Vol. 24. P. 488–496. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2012.04.002
- Wilson III 2008 – Wilson III E.J. Hard Power, Soft Power, Smart Power // ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciences. 2008. № 616. P. 110–124.