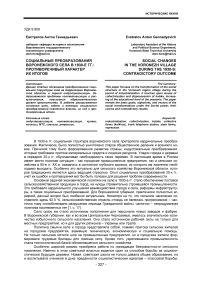Социальные преобразования воронежского села в 1930-е гг.: противоречивый характер их итогов
Автор: Евстратов Антон Геннадьевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена преобразованию социальной структуры села на территории Воронежской области в период индустриализации. Затрагиваются проблемы коллективизации и раскулачивания, повышения образовательного уровня крестьянства. В работе раскрываются основные цели, задачи и векторы социальных преобразований советской власти, их ход и противоречивые итоги.
Индустриализация, коллективизация, кулаки, колхозы, мтс, совхозы, репрессии
Короткий адрес: https://sciup.org/14934959
IDR: 14934959 | УДК: 9.908
Текст научной статьи Социальные преобразования воронежского села в 1930-е гг.: противоречивый характер их итогов
The summary:
This paper focuses on the transformation of the social structure in the Voronezh region village during the period of industrialization. It touches upon issues of collectivization and dispossession of kulaks, increasing of the educational level of the peasants. The paper reveals the basic goals, objectives, and vectors of the social transformations under the Soviet power, their course and contradictory results.
В 1930-е гг. социальная структура воронежского села претерпела кардинальные преобразования. Фактически, было полностью уничтожено старое общественное деление и возникло новое. Причиной тому было форсированное развитие страны, индустриальные преобразования, которые требовали притока материальных средств и людских ресурсов. Упадок города и деревни в середине 20-х гг. обуславливал необходимость таких перемен. В настоящее время в России имеет место похожая ситуация – как городские промышленные предприятия, так и сельские хозяйства в 90-е гг. ХХ в. оказались в состоянии глубокого кризиса, из которого им жизненно необходимо выходить. Особенно это актуально для сельского хозяйства Воронежской области, которое традиционно является здесь ведущей отраслью. Опыт социальных преобразований 30-х гг., учет их ошибок и противоречий мог бы быть полезен для решения проблем современности.
Основной задачей экономической политики на селе в 1930-е гг. стало обеспечение поставок сельскохозяйственной продукции в город, на нужды стремительно строившейся промышленности. Это требовало кардинального улучшения взаимодействия города и села, реформы инфраструктуры, а также социальных преобразований. Для Воронежской губернии, практически полностью аграрной, данный вопрос был особенно актуальным. Несмотря на то, что сельское население составляло здесь 92,5 %, сельскохозяйственная отрасль отнюдь не являлась прогрессивной – частично тому способствовали разрушения периода Гражданской войны, частично – непродуманная политика послевоенных лет [1, с. 17].
Село сразу же стало источником пополнения для персонала новых заводов и фабрик. В Воронежской губернии, как и во всем Центральном Черноземье, имелось значительное количество избыточного сельского населения. Оно стало источником рабочей силы не только для местных предприятий, но и для других регионов – Украины или Урала.
Политика смычки села и города представляла собой, помимо притока сельских жителей на городские предприятия, взаимную техническую, экономическую и социальную помощь. Не только сельские жители шли на промышленные предприятия, но и городские жители формировали трудовые бригады для помощи селу. Кроме того, укрепившаяся промышленность стала технологической базой обновлявшегося сельского хозяйства.
Особенно широкий размах приобрела работа по ликвидации безграмотности сельского населения. Именно в этом советской властью виделся один из способов борьбы за социалистическое будущее деревни. Новая, советская школа не только давала общее образование, но и воспитывала учеников в духе преданности социалистическим идеалам – классовой борьбы, коллективизма, богоборчества и другое. Частью работы с населением была и организация в каждой школе пионерских отрядов, в каждом населенном пункте – комсомольских ячеек, боровшихся не столько за общую, сколько за идеологическую грамотность граждан. К 1934 г. безграмотность в селах Центрального Черноземья была в целом ликвидирована.
Кроме того, из городов прибывали специальные агитационные бригады, киномеханики, артисты. Для сельских жителей строились клубы, библиотеки, избы-читальни, организовывались кинопоказы и концерты. Зачастую все это помогало пропагандировать переход крестьян в города, так как в ряде кинокартин того времени городская жизнь выглядела гораздо привлекательнее, чем сельская.
Техническое перевооружение села привело к появлению новых профессий – трактористов, комбайнеров, шоферов, ремонтников, прицепщиком. В свою очередь, такие социальные группы, как кулаки, середняки, подкулачники, были ликвидированы как классы проходившей коллективизацией.
Борьба по раскулачиванию активно велась по всей Воронежской области. Так, только за один 1930 г. было раскулачено 5 558 хозяйств Усманского округа, 5 292 хозяйства Борисоглебского округа и 11 563 хозяйства Россошанского округа [2]. Лишь за несколько месяцев 1930 г. было раскулачено 208 крестьян Новохоперского района. У них отчуждалось 202 дома, 495 надворных построек, 151 голова рабочего скота, 145 голов молочного скота, 129 голов молодняка, 344 головы мелкого скота, 144 единицы сельскохозяйственных орудий, 2 мельницы, 2 молотилки и 1 двигатель. В дополнение к этому у граждан, признанных «кулаками», было изъято 5 261 кг ржи и других культур, а также муки, 12 220 пудов фуража, 116 телег и саней, 60 комплектов упряжи, 435 руб. 5 коп. денежных средств и на 310 руб. ценных бумаг [3]. Это – не так много, что позволяет сделать вывод о не совсем верном определении тех или иных граждан как «сельских капиталистов».
Данный вывод подтверждает Информационная справка Обкома ЦЧО за 1930 г. В ней говорится о том, что раскулачивание зачастую задевало крестьян-середняков, а изъятое имущество иногда «разбазаривалось» [4]. К примеру, в Острогожском районе местные коммунисты и представители бедноты изъявляли готовность раскулачить учителей, служащих и середняков, причем местные руководители не смогли дать отпора подобным настроениям. В Ольховатском районе под раскулачивание попали даже члены Коммунистической партии, причем отбирались у них практически все вещи, многие из которых сразу же оказывались на участниках данного процесса. В Анненском районе имущества лишились, в числе прочих, 8 семей бывших бойцов Красной армии [5].
Исправить подобные перегибы было не просто, так как зачастую домашнее имущество не попадало в описи и оказывалось в руках участников раскулачивания. И, тем не менее, в ряде случаев нарушения устранялись. В некоторых населенных пунктах имело место даже ослабление социального прессинга – в 20–30-е гг. в Воронежской области стали открываться закрытые ранее церкви. Только в Россошанском округе таковых было открыто 123 [6].
Отобранные скот, инвентарь и продукты, как правило, направлялись в колхозы в качестве паев за бедняков и батраков. Кулацкие дома становились местом жительства колхозников, ряд построек использовались как культурные или административные учреждения. Таким образом, беднячество и батрачество имело от раскулачивания самую непосредственную выгоду, о чем говорило множество документов того времени [7].
Данные процессы привели к обострению в селах Воронежской губернии классовой борьбы. Кулаки активно очернялись в прессе – в вину им вменялись поджоги хозяйств, незаконная агитация и даже массовые выступления против колхозов. При этом участники этих выступлений не ставили под сомнение советскую власть, с их стороны имели место лишь экономические требования. Одним из самых популярных лозунгов недовольных кулаков являлся «Долой колхозы, да здравствует Советская власть!». Все выступления кулачества оперативно подавлялись, а их участники не только теряли имущества, но и подпадали под всю тяжесть репрессивного аппарата [8].
Миграция из села в город и обратно в ходе коллективизации также была поставлена под контроль. Она стала подвергаться учету со стороны местных государственных органов. При этом значительный отток населения из села в город после образования колхозов продолжился, так как уровень жизни в городах был несравненно выше сельского, а, кроме того, там имелось множество перспектив по профессиональной, комсомольской или партийной линиям. Это привело к тому, что за период с 1926 по 1937 г. численность сельского населения территорий Воронежской области уменьшилась на 670 491 чел. Основными причинами такого оттока стали репрессии на селе, принудительное переселение кулаков в малозаселенные регионы страны и контролируемая миграция сельских жителей на городские предприятия и стройки [9, с. 48–49].
Стоит отметить, что значительное количество крестьян пострадало от репрессий в деревне. Помимо уголовного производства в отношении кулаков, село затронули и судебные процессы, касавшиеся вредительства, шпионажа и даже попыток свержения государственного строя. Их фигурантами зачастую становились граждане достаточно скромного имущественного положения. Речь идет о делах «Трудовой крестьянской партии», меньшевиков, «Союзного бюро РСДРП» и других. Кроме крестьян, в содействии данным образованиям обвинялись и местные интеллигенты [10, с. 85].
Касаясь непосредственно коллективизации на селе, необходимо принять во внимание, что наиболее передовым типом хозяйства считались совхозы, включавшие в себя МТС – это были наиболее последовательные с точки зрения идеологии социализма, объединения. В колхозах, в свою очередь, представителей каких-либо механизированных профессий не было. Эта категория населения относилась к рабочим совхозов, а не к колхозному крестьянству. При этом последнее составляло большую часть населения села – 45 %. Оставались и крестьяне – единоличники. Согласно переписи 1937 г. их было 22,5 %. Эта категория населения на селе была самой бесправной [11, с. 15].
В результате всех преобразований старая градация сельских жителей ушла за годы индустриализации и коллективизации в прошлое. Такие категории как батрак, бедняк, кулак и середняк навсегда прекратили свое существование. Российская деревня стала социально единообразной и была представлена колхозным крестьянством и рабочими совхозов. В то же время, сельские жители утратили даже ту небольшую самостоятельность, которая у них была ранее, став подневольными работниками. Полностью уничтожен был тип крестьянина-хлебороба, долгие века бывший символом российской деревни. Однако техническое оснащение села стало гораздо лучше. Только по данным на конец второй пятилетки по СССР насчитывалось 456 тыс. тракторов, 129 тыс. комбайнов и 146 тыс. грузовиков.
Следует отметить, что техническое перевооружение не повысило уровень жизни крестьянства, а организационные перемены сказались на нем исключительно негативно. Несмотря на рост зарплат в городе, увеличение национального дохода, колхозники трудились практически забесплатно. Как правило, денежные выплаты на селе вообще были редкостью и организовывались лишь наиболее успешными председателями колхозов. Средний доход каждого колхозника равнялся 376 руб. в год. Как правило, выжить им помогали приусадебные участки, разрешенные с 1935 г. [12].
Индустриальные преобразования и сопутствующие им изменения на селе решили целый ряд задач, стоявших перед советским государством в 30-е гг. ХХ в. Стремительно растущая промышленность получила нужное количество рабочих. Их образовательный и культурный уровни весьма стремительно росли, чему способствовала разветвленная сеть образовательных учреждений. Социальная структура села Воронежской губернии в результате стала походить на городскую – кроме колхозного крестьянства, не имевшего частных земельных владений, там появились пролетарии – рабочие совхозов и механизаторы. Что касается «оплота капитализма», кулачества, то оно было ликвидировано как класс, что дало возможность беспрепятственных дальнейших преобразований социальной структуры сельской местности региона [13]. Вне сомнения, социальная политика на селе в 30-е гг. в ее репрессивной части не может рассматриваться на современном этапе как пример. Вместе с тем, такие ее аспекты, как обеспечения села техникой и обслуживающими ее кадрами, содействие города в благоустройстве сельских территорий может быть взято на вооружение. При этом, пожалуй, главным уроком 30-х гг. для современности является необходимость продуманного, эволюционного характера реформ в деревне и недопустимость перегибов и разного рода радикализма в данном вопросе.
Ссылки:
-
1. Климов И.М. Из истории формирования рабочего класса Центрального Черноземья. Воронеж, 1977.
-
2. ГАОПИВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1085.Л. 9.
-
3. ГАОПИВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1085.Л. 1
-
4. ГАОПИВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1085.Л. 2.
-
5. ГАОПИВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1085. Л. 43.
-
6. ГАОПИВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1085. Л. 44.
-
7. ГАОПИВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1085.Л. 1.
-
8. Там же.
-
9. Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991.
-
10. Трапезников С.П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. М., 1983.
-
11. Всесоюзная перепись 1937 г. Материалы для докладчиков. М., 1937.
-
12. Советское крестьянство. Краткий очерк истории (1917–1969). М., 1970. С. 276.
-
13. ГАОПИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1210. Л. 18.