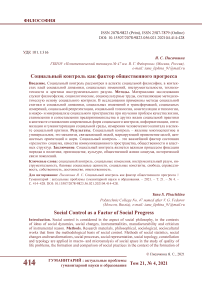Социальный контроль как фактор общественного прогресса
Автор: Писачкина Яна Семеновна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. Социальный контроль рассмотрен в аспекте социальной философии, в контекстах идей социальной динамики, социальных изменений, инструментальности, технологичности и критики инструментального разума. Методы. Материалами исследования служат философские, социологические, социокультурные труды, составляющие методологическую основу социального контроля. В исследовании применены методы социальной статики и социальной динамики, социальных изменений и трансформаций, социальных измерений, социальной репрезентации, социальной топологии, констелляции и типологии, в макро- и микроанализе социального пространства при изучении проблем качества жизни, становлении и сопоставлении предпринимательства и других видов социальной практики в контексте становления современных форм социального контроля, информатизации, оптимизации и гуманитаризации социальной среды, измерении человеческого капитала в аспекте социальной критики. Результаты. Социальный контроль - явление многоаспектное и универсальное, это механизм, связывающий людей, маркирующий применение целей, ценностных ориентаций и норм. Социальный контроль - это важнейший фактор состояния «зрелости» социума, качества коммуникационного пространства, общественности и властных структур. Заключение. Социальный контроль является важным процессом фиксации порядка в политике, производстве, культуре, общественной жизни социума, исторической связи поколений.
Социальный контроль, социальные изменения, инструментальный разум, инструментальность, базовые социальные ценности, социальные константы, свобода, справедливость, собственность, достоинство, ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/147236032
IDR: 147236032 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.15507/2078-9823.56.021.202104.414-428
Текст научной статьи Социальный контроль как фактор общественного прогресса
Целью истории общественной жизни служит полнота человеческого прогресса. Контроль в предельно широком плане – это способность и возможность какой-либо системы воздействовать на функционирование другой или множества других систем как объектов. Социальный контроль – это свойство осуществления социальной субъектности и интерсубъектности, реализуемые механизмами склеивания социального «вещества». Это власть и закон, вера и традиции, историческая память и разнообразные формы «общественного поручительства и доверия», реализуемые многими механизмами совести, ответственности и долга в демократической и иных формах современного общества.
В истории философии сложился традиционный жанр критики. Базовой является критика теоретического и практического разума, а также критика различных направлений и подходов, представленных в социальном познании общественных процессов и изменений: это критика исторического, политического, экономического, культурного развития, представленная в истории развития наук, культуры, в системе теоретических знаний и практик.
М. Фуко выделил четыре основные фигуры, определяющие строение знания в рамках археологии гуманитарного знания, характеризующие «прозу мира». Первая в этом ряду среди свойств и категорий в системе мироустройства - всеобщая «признанность» вещей – сходство, связанное с пространством как отношением «ближнего к ближнему», выражающее соединение и слаженность вещей. Второй фигурой такого рода является соперничество, посредством которого «вещи, рассеянные в мире, вступают между собой в противоборство, противостояние и перекличку», оказывают влияние друг на друга. Третьей фигурой, или формой подобия, служит аналогия, которая совмещает в выражении признанность и соперничество. Четвертая форма подобия выражается действием симпатий и антипатий [20, с. 55–62].
Методы
Материалами исследования послужили философские, социологические, социокультурные труды, составляющие методологическую основу социального контроля. В исследовании применены методы социальной статики и социальной динамики, социальных изменений и трансформаций, социальных измерений, социальной репрезентации, социальной топологии, констелляции и типологии, в макро- и микроанализе социального пространства при изучении проблем качества жизни, становлении и сопоставлении предпринимательства и других видов социальной практики в контексте становления современных форм социального контроля, информатизации, оптимизации и гуманитаризации социальной среды, измерении человеческого капитала в аспекте социальной критики.
Результаты
Социальный контроль – явление многоаспектное и универсальное, это механизм, связывающий людей, маркирующий применение целей, ценностных ориентаций и норм. Это важнейший фактор состояния «зрелости» социума, качества коммуникационного пространства, общественности и властных структур.
История становления социального контроля неотделима от истории социума. Социальная история – это непрерывная цепь социальных изменений. Начало истории связано с появлением и становлением социального контроля в ранних формах. Первоначально биология задает базовые параметры поведения и развития человека. «История разворачивается внутри заданных биологией рамок», которые позволяют людям «играть в самые разные игры». На этом этапе сформировался не только «человеческий разум в своем нынешнем виде, но и окружающий нас мир» [21, с. 77].
«Социальные изменения» – это основная категория, характеризующая описание социальной динамики и переход социальных объектов из одного состояния в другое. П. А. Сорокин подчеркивал идею, что «самая насущная потребность нашего времени – это человек, способный контролировать себя и свои желания, с сочувствием относящийся к своим ближним, понимающий и ищущий вечные ценности культуры и общества, глубоко осознающий личную ответственность в мире» [18, с. 794]. Идея мыслителя обосновывает настоятельную необходимость современности в переходе от принципов «покорения природы человеком и контроля над ней – к контролю человека над самим собой».
Современный мир динамичен и изменчив. Он состоит не из «завершенных предметов и понятий», а представляет собой со- вокупность процессов, в которых предметы и понятия находятся в беспрерывном изменении [6, с. 25]. В этом мире люди благодаря языку и воображению «изобретают все более сложные игры, и каждое поколение дополняет их…» [21, с. 50]. Колоссальное количество происходящих изменений бросает вызов современной науке. Социальные изменения обусловливают необходимость воспроизводства и совершенства социального контроля.
Начало социального контроля связано с появлением человеческого общества, становление которого – сравнительно длительный процесс, имеющий определенные «вехи отсчета» и возможности сравнения и сопоставления траекторий происходящих изменений, открытий и изобретений, вооружающих человека и социум. В качестве важнейших «базовых вех» и «точек отсчета» в становлении социальной истории человечества выступила череда революций. Одно из первых мест в их ряду принадлежит когнитивной революции.
Эта революция берет начало около 70 тыс. лет назад и связана с развитием интеллекта, но первые 60 тысячелетий предстают в этой истории в качестве «завесы молчания». Только последующие десять тысячелетий эта революция позволяет не только производить, но и передавать непрерывно возрастающие объемы информации об окружающем мире, развивает возможности планировать и осуществлять сложные действия, создавать большие и сплоченные группы и сообщества и открывает все другие перспективы социальной жизни. Именно этот период ученые связывают с началом социальной истории [21, с. 50].
Не менее важной вехой становления социального контроля служит культурная революция. Она дала социальному миру и человечеству идею «всё видящего ока Господа» в форме религий, вплоть до тех, которые получили мировой статус.
Становление социального контроля – это процесс создания «воображаемого порядка» в истории. Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» пишет о формировании институтов семьи, государства и других механизмов сотрудничества и управления, которые характеризуют становление социального пространства, пространства культуры и пространства власти, норм и закона. Это революции духа и «пространства». Их характеризуют истории империй и цивилизаций, революции производства и потребления, революции господства и подчинения, процесс формирования цивилизаций и процесс «выживания», реализуемый в создании разных форм деятельности, формирующий плоть и дух.
В социальной истории непрерывен поиск реальных ответов на насущные заказы социальной жизни. Происходит непрерывный поиск новых форм социального «цемента» солидарности и кооперации в форме более или менее легитимных проявлений социального и культурного проявления [5, с. 176]. Социальный контроль «склеивает» и «связывает» все элементы, выражающие содержание его реализации (оценку состояний социума, жизненных факторов и ресурсов развития, истинные и фальшивые комбинации, используемые и применяемые «игроками», действующими и заинтересованными сторонами, субъектами социальных отношений). В этом плане важнейшим вектором становления социального контроля является понятие социальной революции, введенное в философию истории К. Марксом. Это понятие стало центральным в социальных и гуманитарных науках, кардинально изменивших характер и практики социальных перемен в системах и действии механизмов контроля.
Безусловными векторами и важнейшими вехами становления социального контроля служат информационные рево- люции. Они позволяют характеризовать и оценивать изменяющийся мир, в котором живет человек и существует социум. Этот мир характеризуется определенными состояниями интенсивности информации и коммуникации. В контексте истории общественного развития кардинальные изменения происходят в сфере производства, обращения и обработки информации. Они связаны с увеличением информационной и коммуникационной емкости (по Д. Робертсону). Ступенями этого процесса служат переходы: а) первый этап связан с продвижением от состояния «предъязыка» к «языку», он имеет характеристику информационной емкости – порядка 109 бит; б) состояние возникновения письменности характеризуется информационной емкостью социума в 1011 бит; в) этап изобретения книгопечатания характеризует состояние информационной емкости социума в 1017 бит; г) этап появления компьютера – 1025 бит [15, с. 213].
Особо важные вехи в становлении социального контроля связаны с инструментальными революциями, динамикой организации производства и технологий как особых форм практической инструментальной деятельности. Следует принять идею, что философская деятельность – это осмысление реальности действий социального контроля. Эта деятельность «обретает плоть и кровь» в качестве использования философии как «прикладного орудия», в качестве методологии как «инструктивной канвы перевода теории в практику, модели в реальность, науку в технонауку» [6, с. 7]. Философия инструментальности и инструментальный разум выражают практичность теории для человеческой жизни и служат в качестве инструмента для удовлетворения потребностей человеческого существования (М. В. Вартофский). Смыслы состоят в открытии ответа на проблемные вопросы по поиску пути к действию. Стратегическое понимание реализуется как обнаружение смысла. Тактическое понимание представляет «развернутую процедуру», связанную с фазисами проникновения в существо дела.
Социальный контроль – важнейший маркер теории социального пространства. Его объектами предстают качества факторов удовлетворения социального обустройства граждан, реализации их прав и свобод, обеспечения смысла общественно ориентированных действий. Это взгляды и оценки ситуаций от «здесь и сейчас» и оценки с разных позиций (в ретроплане, в утопиях и прогнозах со взглядом во внутренний мир, с позиции самосознания, самооценки и самоконтроля).
Это особый этап становления системы социального контроля в истории цивилизации, связанный с эпохой становления нового миропорядка. Это проблемы толерантности и качества жизни. Важный этап осмысления креативной деятельности человека в XIX–XX вв. связан с появлением этики благоговения перед жизнью, автором которой был А. Швейцер. Сформулированный им этический принцип наиболее просто и полно выражает идею необходимости сохранения жизни на Земле. Эта жизнь служит безусловной основой того мира, в котором мы существуем и живем. Как и любой этический принцип, этика благоговения обращается к человеческим чувствам, но этот принцип более всего апеллирует к разуму и предстает не столько чувственным, сколько рациональным фактором бытия и сознания. Безусловно, логическая адекватность делает его «простым для понимания и универсальным для применения». Без воздуха жизнь человека завершается в несколько минут, без воды она возможна несколько дней, без еды – около месяца. Безусловно, этика благоговения перед жизнью и современные проблемы взаимодействия общества с природной средой выражают понимание значимости нравственного принципа благоговения перед жизнью в качестве действенного инструмента окружающей жизни и устойчивости биосферы.
Этапы этой революции представлены с обоснованием статуса «жизненное пространство социума в диалоге с человеком как субъектом бытия и социума». Диалог с природой – это диалог с историей; это диалог в культуре и диалог с культурами как позициями; диалог с культурой в социальном познании и принципами культуры. Диалог – это сопоставление резонов (аргументов) в выборе и выстраивание позиций; диалог – это процедура, форма и метод достижения и выбор в обретении истины (истина и красота, а красота спасет мир). Репрезентация – как форма реализации достоинств диалога. М. М. Бахтин смотрел на эти идеи не в качестве «философских» или научных, а практически, т. е. «в плане человеческого события». Он трактовал форму «взаимодействия между равноправными и равнозначными сознаниями» в социуме, в качестве диалогического. Его работы помогают понять высокую цель диалога как гармонию сосуществования, полифонию голосов, участников общения на основе взаимного уважения, терпимости, толерантности, такта, стремления понять другого, определить разумный компромисс, необходимый для сотворческого лада между партнерами как субъектами [4, с. 225].
К. Р. Поппер представил схему тоталитарных и демократических режимов (свободы) социума. Феномен научных революций представлен в формировании парадигм в социальных науках. Он связан с расширением возможностей человека в выборе базовых ценностей и способностью манипулировать и контролировать деятельность людей, включать в практику многие «социальные феномены человека» и «человеческие качества» [16]. По мнению Д. Харви, лучше всего это произойдет тогда, «…когда все аспекты науки будут проходить как ре- волюционные, так и контрреволюционные фазы мысли, что, несомненно, будет сопровождаться революционными изменениями в социальной практике [22, с. 151–191]. Становление социального контроля – это социальная реальность и превращение «воображаемого порядка» в порядок реальный. Нельзя не согласиться с идеей Т. Куна о том, что после каждой научной «революции ученые имеют дело с иным миром» [11, с. 57].
В математике как науке важнейшим открытием явилось определение Пифагором числа как «сущности всех вещей» [23, с. 213]. Древний мир магически связывал число со свойствами материальных вещей и с их необходимыми причинами. В любом и каждом из проявлений число имеет как слуховой и повторяющийся резонанс, так и тактильное измерение [13, с. 196]. Пифагорийцы дали числу тройное толкование: первое – «число как ограниченное количество»; второе – «число как набор или скопление частей»; третье – «число как растущая сумма» [3, с. 29]. В этом аспекте открытие числа для становления социального контроля получило математическую подоплеку, «укоренение» которой состоялось в качестве «клея социального вещества», связывающего каждого человека с сообществами и группами людей.
Революции в логике ознаменованы этапами становления: от формальной логики у Аристотеля как элементарных принципов доказательных начал до И. Канта, у которого социальная аналитика предстает в качестве гносеологического анализа рассудочного познания и становления математической логики в ряду логик традиционной и диалектической (от Гераклита, Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса, В. И. Ленина), а также синергетики, и логики ситуационной и других форм, прежде всего социальной топологии, которые широко применяются в современном социальном контроле. Си- туационная логика предстает в качестве инструмента математического творчества. В режиме социального контроля она позволяет анализировать и описывать различные состояния социума: состояния совместимые или несовместимые, состояния, свойственные той или иной ситуации. Это важнейший инструмент анализа и прогноза общественного бытия, применяемый в экспертной практике.
В логике оптимальность предстает как наилучший, наиболее благоприятный выбор возможности. По Аристотелю, это мера, которая свойственна добродетелям. Суть бытия добродетели «есть обладание серединой, а с точки зрения высшего блага и совершенства – обладание вершиной» [1, с. 87]. Нравственная добродетель связана со страстями и поступками. Нормативные основания справедливости связаны с действием принципа «золотой середины», дислоцируемой в пространстве между пороками. В представленной Аристотелем конструкции выделены два вида справедливости: распределительная (дистрибутивная) и уравнивающая (ретрибутивная). «Оптимизация» выражает процесс выбора наиболее благоприятного варианта в данной ситуации. В современном обществе оптимальность – это важнейший логический принцип в организации социального контроля.
Принцип Парето был введен в 1906 г. Он был основан на наблюдении, сделанном ученым при осмыслении социального «оптимума». Этот принцип выражает идею о равновесии на рынке. Усовершенствование равновесия, согласно В. Ф. Д. Парето, происходит при перераспределении, когда оно возвышает одного, делает его богаче, а другой становится беднее. В. Ф. Д. Парето считал концепцию контрреволюционной, как и любую формулировку, если она требует максимизации отдельно взятого частного проявления прибавочной стоимости
(ренты, доходности капитальных вложений и др.). Элементы и границы, установленные ученым, получили название «оптимума» по Парето при выражении 80/20 [22, с. 183].
В современном мире социальный контроль – это разнообразные формы «общественного поручительства» и доверия, реализуемые многими механизмами и институтами (политикой, наукой, культурой и др.). В философской науке идея социального контроля тесно связана с «открытиями» в различных науках (в том числе в точных науках, в математике, логике), а также в науках естественных, технических, гуманитарных и социальных.
Социальный контроль вторгается в ситуации управления, которые являются проблемными, а порой чрезвычайно опасными на любом уровне социального бытия и социальных практик. Д. Харви характеризует оптимальность с опорой на идеи, которые дают возможность «нащупать» очертания новой теории, позволяющей найти выход из проблемной ситуации. По его определению, «революция в научной мысли заканчивается упорядочиванием концепций, идей категорий и взаимосвязей в такую всеобъемлющую систему мысли, которая, пройдя проверку реальностью, демонстрирует очевидную нелепость всех противоречащих ей подходов. Признание революционной теории будет зависеть от успешности и убедительности революционной практики» [22, с. 184]. Эта идея при оценке существующей теории Парето выражает, по мнению английского философа, «производные» элементы, или «деривации», выступающие в качестве факторов открытий и изобретений, позволяющие находить пути решения актуальных и сложных проблем.
ХХ в. состоялся как век глобальных проблем и катастроф. В их числе прежде всего глобальные проблемы: проблемы социальных революций, проблемы мировых войн, угроза ядерной войны, проблемы экологи- ческие, антропологические, медицинские, технологические и другие, определяющие состояние способности человечества к выживанию и развитию. Социальный контроль характеризует «социальное вещество», которое анализируется в качественном и количественном измерении – в позициях солидарности, порядка, сотрудничества и других характеристик социума, принятых в разных топиках и топологиях (математических и логических), подвергаемых количественному измерению множества состояний [8, с. 99–108] и отношений, характерных для всех социальных субъектов и объектов. При этом математические замеры и операции, их квалиметрическая обработка производятся посредством статистических и других способов и методов специального социального и социологического анализа и синтеза, позволяющих обнаруживать «болевые точки» и «точки кипения», существующие и возникающие в определенных социальных ситуациях и в социуме в целом [9, с. 128].
В измерениях социального контроля характеризуются состояния жизненного пространства социума и его структур, сообществ, групп и индивидов. Качественные и количественные характеристики показателей, свойственные уровню и качеству жизни, характеристике человеческого капитала, состоянию различных видов социальной безопасности: продовольственной, экологической, санитарной, медицинской, информационной, военной и др. [8, с. 67– 68]. Представительные множества обретают официальный статус критериев, которые используются для осуществления контроля социальных практик. Социальный контроль выполняет миссию поддержания должных состояний социального порядка, нормализации и гармонизации социальной среды и служит регуляцией действий и взаимоотношений между субъектами.
Социальная топология является важным инструментом социальных наук и со- циального контроля. Объективный предмет социального знания представляют общественные системы как организации социальной реальности в самоутверждении жизнедействующих субъектов. Социальные проблемы различаются прежде всего по масштабу. Социальная диагностика выделяет проблемы глобального, регионального и локального масштаба. Глобализация в топологическом плане характеризует интеграционные и дезинтеграционные процессы планетарного масштаба в области политики, экономики, культуры и затрагивает интересы всего мирового сообщества. Регионализация ориентирует исследования пространства социального контроля, смысл которого развертывается в социальном плане, представленном на региональном и местном уровне. Исследователи этого процесса фиксируют особенности конструкций «социологического понимающего объяснения». Они выделяют «базовые элементы, находящиеся во взаимной макро-микро и микро-макроконстелляции» [7, с. 15].
Технологические революции – это наиболее важные и эффективные формы социальных изменений из всех существующих. В. В. Ильин считает технологию рычагом инструментального, но не гуманитарного разума. Своеобразие глубинной ситуации нашей эпохи («шиболет», по К. Т. Ясперсу) – это превращение технологии в искусство жить [18, c. 93]. Мир не удовлетворяет человека, поэтому человек изменяет и преобразует его. Гносеологически он превращает мысль в сущее, социологически – превращает идею в потребность, как мотив деятельности и ее предпосылки. Эти позиции разведены во времени. Но в индустриальной и постиндустриальной эпохах они топологически выстраиваются в единый механизм «техно-социо-антропомерные ландшафты».
Философия становится универсализацией, геокосмизацией земной сущности и сферой свободы человека. Сверхцель технологии – пересоздание природы; сверхцель культуры – развертывание свободы вкупе с нравственной силой. Однако она предстает ресурсом овладения телесностью и духовностью, не столько с целью человеческого развития, сколько установлением изощренного контроля над ним. Таким образом, современная философия становится философией инструментальной прагматики. Это конвергенция наук и технологий, в рамках которой «человек реально начинает соперничать с Богом в сотворении мира». Креативный алгоритм этой модели включает ступени, среди которых Socio предполагает «модельную адаптацию антропотехнических систем к большой социальности». Законы материального роста человечества – технологические. Именно они предоставляют капитальные фазовые переходы, обновляющие и совершенствующие жизненные уклады: аграрную революцию, индустриальную, культурную, сексуальную, научно-техническую, NВICS-революцию) [6, c. 75]. В технологии все творения действительности реальны. В своей технико-технологической эволюции создаваемый мир должен срастаться в живой органике с богатейшим креативным натуральным привоем. Он осуществляется в процессе конструктивной обработки всех уровней материи от органического атомно-молекулярного (nano) до органического (организмического) (bio), смешанного – информационный обмен в материальном и духовном универсумах (info) и надорганического – сознательного (cogno), поведенческого (cogno, socio).
Автор обосновывает идею, что инструментальный разум повысил свой статус в сфере «знаниевых практик». В неонеклас-сической науке он предстает теперь в роли «созидателя», а не «наблюдателя» теории познания, как было в неоклассической науке. Теперь технология становится не толь- ко инструментом, но и сутью человеческой органопроекции, нацеленной на усиление антропных возможностей, ориентированных на стратегию объединения материального морфогенеза в динамическом квинтете NВICS (Nano, Bio, Info, Cоgno, Socio) [18, c. 23]. В. В. Ильин подчеркивает свойственную современной трансформации философии нацеленность на комплекс продуктивных потенций, представленных совокупностью знаний и представлений: нанотехнологий, биотехнологий, информационных, когнитивных и социальных технологий. Автор связывает ее со становлением креатологии как апологии технона-учного инструментального разума. В рецензируемой монографии подчеркивается мысль, что производство окружающей среды для современной практики становится последним словом в развитии науки и техники во взаимодействии культуры, образования и экологии. В этом взаимодействии философия выражает тенденцию деятельностного активизма [6, c. 18].
В современных условиях появляются новые проблемы, новые идеи, новые практики и новые технологии. В. В. Ильин обосновывает идею, что инструментальный разум повысил свой статус в сфере «знаниевых практик». В неонеклассической науке он предстает теперь в роли «созидателя», а не «наблюдателя», как было в неоклассической науке.
В качестве науки фундаментального ранга в рамках системы философского знания онтология выстраивается как «рефлексия бытия» и как «теория сущего». В социальной философии это процесс социального бытия, который представлен в эссенциализме в качестве объективной онтологии и в экзистенциализме как форме субъективной онтологии. В этой системе новая философия развертывается как «теория демонической власти к творчеству», добывающая не истину, а «рабочую цен- ность преобразовательства», в которой бытие обретает облик «деривата инструментального разума». В ней инструментальный разум, по определению В. В. Ильина, «все более утверждается в мире, но мир вследствие этого (вопреки Дьюи) не обретает черты разумности» [6, с. 6–8]. Широкомасштабное социотехническое наступление на действительность становится провозвестником поворота современной истории. Эта идея широко представлена в критическом осмыслении социального контроля как процедурного инструментария выработки ответственности и блокирования неопределенностей.
В науках системы философского знания гносеология предстает в качестве «рефлексии познания». В ее структуре становление социального контроля – это процесс создания «воображаемого порядка» в истории. Эту роль выполняет теория спонтанности (спонтанейности). Спонтанные саморазви-вающиеся идеи характеризуют образ человека на рубеже разных эпох. В концепции жизни, разработанной в схоластических трактатах «О душе», созданных в XVII в., были широко раздвинуты границы традиционной аристотелевской психологии. В этой концепции лежит представление о жизни как «о предельно внутреннем, имманентном совершенстве». Жизнь мыслящего и стремящегося существа артикулируется в двух фундаментальных формах: как жизнь физическая, в которой человек есть одно из звеньев в общей последовательности творений, и как жизнь интенциональная («жизнь познания и стремления»), в которой он максимально уподобляется Богу [4, с. 324]. Эта жизнь находит выражение в форме благо-разумности и креативной деятельности.
Цветные революции – это технологии «управления хаосом». Современный порядок в социуме служит воплощением особых форм и технологий, создаваемых социальной практикой и социальным вооб- ражением, культурой и, что особенно важно, институциональными практиками.
Интерпретация идеи К. Манхейма позволяет рассматривать в качестве предмета социального контроля в философии культуры «общественно-обусловленное жизненное пространство со всем его экзистенциальным базисом, с принадлежащим ему конъюнктивно-обусловленным понятийным аппаратом и коллективными представлениями» [14, с. 409]. Философы рассматривают этот контроль как находящийся «в постоянном процессе становления». Поэтому любая «стереотипизация» означает ретардацию этого процесса, служащую для обозначения предметов определенного пространства опыта, с которым они соотносились до сих пор и недифференцированно сопоставлялись друг с другом.
Что является пространством социального контроля, представленного в акцентах авторских позиций в философской и научной литературе? Это пространство отслеживания теневых сторон свободы. Эти пространства теневых (темных) сторон, которые необходимо привести в иное состояние допустимых норм, ограничений и требований, необходимых и допускаемых обществом ограничений. Нарушение этих ограничений должно неукоснительно быть караемым. Социальные революции сопровождались изобретением гильотин, электрических стульев и других технически несложных изобретений, которые служили делу социальной справедливости. В философской литературе тени «несвободы» исследовал М. Фуко («Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы», «История безумия в классическую эпоху»). Социальные технологии всегда служили и служат выполнению определенного спроса или заказа, если есть нужда на допустимую (и недопустимую) реализацию свободы (воли и прочие нехорошие излишества).
Т. С. Кун характеризует нормальную науку как «решение головоломок» [11, с. 35]. Эти позиции во многом определяют предмет тех или иных социальных и гуманитарных наук. Например, это пространство характеризуется как «жизненное пространство» (Ф. Ратцель, К. Манхейм); социальное «пространство борьбы» (Ф. Ратцель, Г. Зиммель, К. Шмитт); пространство «социального конфликта» (К. Г. Маркс, Г. Зиммель, Р. Г. Дарендорф, Л. А. Козер); «пространство свободы» (Н. А. Бердяев, Ж.-П. Сартр, И. Берлин); «пространство ответственности» (Й. Йонсон); «пространство обмена» (Д. К. Хоманс, П. М. Блау); «пространство долга» (И. Кант). Наконец, это «пространство власти и контроля» (Т. Парсонс, М. Фуко), а также это «пространство власти, господства, сотрудничества» (Т. Гоббс, Н. Макиавелли, М. Вебер, Т. Парсонс); «пространство символов» (Ю. М. Лотман, М. К. Петров, В. В. Ильин); «пространство диалога» (М. М. Бахтин, М. Бубер); «пространство игры» (Й. Хейзинга) и многие другие версии и варианты, которые служат базой для технологических цепочек и процедур в системе общественных отношений.
В общественной жизни современного миропорядка (мир-системы) функции социального контроля неизменно остаются в ряду важнейших. По одному из авторитетных определений, социальный контроль – это общественное поручительство, реализуемое демократическим обществом, или функция «сторожевых псов» и «наблюдателей» в обеспечении контроля за «теневыми сторонами свободы» (Н. Луман) [13, с. 315].
Так, офшоры занимают самое приоритетное место в системе теневых аспектов свободы. В современном мире насчитывается несколько десятков офшорных территорий. Налоговые убежища – это Кипр, Гибралтар, Нидерланды, Каймановы острова, которые, например, стали пятым по величине финансовым центром мира (на них раз- мещены почти 2 трлн долл. и зарегистрировано более 80 тыс. компаний). В других регионах мира также существует множество финансовых центров по отмыванию денег. По оценке Дж. Урри, большинство «офшорных обществ» не демократичны. За рубеж выносится многое, считает автор, что будет делать XXI в. «крайней офшори-зации» [12, с. 55].
Для понимания и оценки офшоров и других территорий международных практик бизнеса нужна теория современного мира, отличная от теории глобализации, считает Дж. Урри [19, c. 29]. Поэтому для целей развития и существования современного общества нужна новая, иная практика, необходимая для восстановления демократического (социального) контроля над технологией офшоризации, индустрией развлечений, спорта, туризма. Это необходимо делать с учетом того, что воздушные пространства (впрочем, как и водные) – типичные «места» нового глобального порядка. По всему миру перемещаются системы контроля передвижения и обеспечения безопасности контроля. Примеры офшори-зации досуга и появления разнообразных мест происходят по мере того, как на смену жизни в соседских отношениях приходит жизнь, проводимая вне пределов местных сообществ [19, с. 144].
Цивилизационный процесс связан с развитием политических свобод, законов, основанных на разуме и принципах гражданского самоуправления и автономии структур, составляющих общество. Он характеризуется развитием систем интернальных и экстернальных (гносеологических, этических, юридических) оценок актов собственного действия и связан с развитием целого ряда социальных тенденций и форм, таких как этизм, юридизм, социологизм, а также политизм, экономизм, эстетизм, включая практицизм, марксизм и связанных с ними основных стратегий становления социаль- ного контроля и соответствующих им технологий, механизмов и практик деятельности, поведения, оценки поступков.
Социальная система рассматривается в данном исследовании как совокупность функционально-взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, процессы функционирования которых направлены на достижение общих целей. А это есть ориентация на определенный калибр применяемого орудия в качестве инструмента. Основные направления и механизмы гуманитаризации социального контроля связаны с процессом создания условий для более полного развития и реализации свободы и утверждения достоинства максимально возможного для индивидов, групп, общностей.
И. Валлерстайн, американский социолог, автор миро-системной методологии, президент Международной социологической ассоциации призвал мировое научное сообщество к конструированию исторической социальной науки на базе методологии, соединяющей натуралистический анализ макропроцессов и микроявлений (с культурцентристским измерением отдельных точек). По И. Валлерстайну, «мир есть продукт прошлого, задающего параметры для новых путей» [2, c. 235]. Он оценивает с позиции социального контроля «применение эвристической оценки жизненной стратегии между трансисторическими обобщениями и частными изложениями», которые следует связывать с объяснением «действительности как конструируемой реальности», что требует углубления социальной рефлексии в направлении воссоединения мира знания.
Глобальный вектор социально-политических изменений общества действует вкупе с векторами регионального и функционального дифференцирования социума. Репрезентация в социологии пространства – это способ рассмотрения многих проектов.
Символ – мощный духовный ресурс, позволяющий создать возможные миры силой воображения, комбинированием образного. Символ всегда выразитель глубинного, воплощение значения и значимости.
В социальной философии важно отметить, что при социально-философском исследовании социального контроля определяющее место отводится социальной ответственности. В ней главная роль принадлежит нравственному самоконтролю как фактору, а точнее, свойству компетентности и компетенции на основе философски и гуманитарно информированной совести и ответственности, совести и долга и поддерживаемых ими механизмов достоинства и чести. В рубрикаторах информационных сетей указываются многие миллионы ссылок на понятия компетентности. Таков интерес современного общества к данным феноменам культуры современной эпохи.
Компетентность широко трактуется и понимается в современной литературе как совокупность информированности и полномочий субъекта (в аспекте его оценки со стороны социального контроля). Это возможность иметь способности для принятия ответственных решений со знанием дела. Философ, писатель и гуманист Д. С. Соммэр разработал практическую философию и физику морали. По его мысли, мораль как объективная реальность представляет собой совокупность законов природы. Их соблюдение способствует развитию высшего сознания, а нарушение вызывает падение жизненной энергии и деградацию человека [17, с. 325].
Компетенция – это правообладание и готовность индивида, его обладание способностями на предмет соответствующей деятельности. Компетенции отражают стандарты поведения и круг вопросов, определяющих поведение в рамках полномочий.
Цивилизационный статус ключевых компетенций социального контроля пред- ставлен в рамках документа о пяти ключевых тенденциях в Совете Европы.
Он включает:
-
а) политические и социальные компетенции, такие как способность принимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений;
-
б) компетенции, связанные с разрешением конфликтов, применением насильственно участвующих в поддержании и улучшении демократических институтов;
-
в) компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе, такие как понятия о различии, уважении других и способности жить с людьми других культур, языков, религий;
-
г) компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества: владение этими технологиями, понимание их применения, способов к критическому суждению в отношении информации, распространение массмедийными средствами и рекламной практикой;
-
д) способность учиться на протяжении всей жизни в качестве непрерывного обучения в контексте как личной, профессиональной, так и социальной жизни.
В целом проблемы компетентности занимают важное место в научной литературе [10, c. 325]. Они измеряются в версиях оценок социального контроля и всегда связаны с идеей порядка, представленной в идеологии, политике, социологии и культуре. Эти компетенции определяются возрастанием информатизации общества.
Владение данными технологиями связано с пониманием их применения, способами к критическому суждению в отношении информации, а также ее распространением массмедийными средствами в рекламной практике.
О фундаментальном значении социального контроля свидетельствует тот факт, что вследствие социальных кризисов институты, обеспечивающие его эффектив- ность (государство, органы охраны правопорядка, образование, средства массовой информации и др.), оказываются не в состоянии делать это успешно и качественно.
Заключение
Таким образом, в данной статье социальный контроль рассматривается, во-первых, как особый вид социальной теории и практики, обеспечивающий регуляцию и саморегуляцию социальных систем в аспектах выполнения ими важнейших функций: поддержания устойчивого существования, развития и воспроизводства социума на различных уровнях и ступенях его организации.
Во-вторых, это порядок в политике, когда социальный контроль не только фиксируется в особом подходе в социальном познании, но и широко представлен в различных областях знания и практиках, он служит характерной чертой инновационных элементов современного стиля мышления в аспектах субстанциальности, кон- стантности, оптимальности, фиксируемых в социально-философском познании (научно-технической революции, гуманитарных революциях и пр.).
В-третьих, эта особенность опирается на широкое представление в различных областях знаний и практик. Это фактор компетентности и компетенции на основе философски и гуманитарно информированной совести и ответственности, совести и долга и поддерживаемых ими механизмов достоинства и чести. Она служит характерной чертой в структуре инновационных элементов современного стиля мышления и актуальна для традиционных обществ.
Социальный контроль – явление многоаспектное и универсальное, представляющее собой механизм, связывающий людей, подобно клею, маркирующий применение целей, а также ценностных ориентаций и норм, оценок в механизмах регуляции отношений людей, их поведение и деятельность.
Список литературы Социальный контроль как фактор общественного прогресса
- Аристотель. Сочинения : в 4 т. - М. : Мысль, 1984. - Т. 4. - 830 с.
- Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. - М. : Логос, 2004. - 368 с.
- Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. - М. : Прогресс, 1988. -507 с.
- Вдовина Г. В. Интенциональность и жизнь. Философская психология постсредневековой схоластики. - СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2019. - 342 с.
- Ильин В. В., Кевбрин Б. Ф., Иисачкин В. А. Макросоциология : учебник. - Саранск : Типография «Красный Октябрь», 2004. - 304 с.
- Ильин В. В. Теория познания. Критика инструментального разума. Speciosa М^аси1а: тотальный муравейник : монография. - М. : Проспект, 2020. - 160 с.
- Катаев Д. В. Системно-теоретический анализ методологического индивидуализма Макса Вебера. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 94 с.
- Кемкин В. И. Категория «состояние» в научном познании. - М. : Высшая школа, 1983. -120 с.
- Князева Е. Н., Курдюмов С. И. Синергетика: Нелинейность времени и ландшафты эволюции. - М. : КомКнига, 2007. - 272 с.
- Коваль Т. В., Дюкова С. В. Глобальные компетенции - новый компонент функциональной грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2019. - Т. 1. - № 4 (61). - С. 112— 123.
- Кун Т. Структура научных революций. - М. : АСТ, 2001. - 63 с.
- Лепский В. С. Эволюции представлений об управлении (методологический и философский анализ). - М. : Когнито-Центр, 2015. - 107 с.
- Макаревич Э. Ф. Социальный контроль масс : учебное пособие для вузов. - М. : Дрофа, 2007. - 429 с.
- Манхейм К. Избранное: социология культуры. - М. : Университетская книга, 2000. - 501 с.
- Назаренко С. В. Социальный контроль в воинских коллективах: методика социологической экспресс-диагностики нарушений уставных взаимоотношений // Общество и право. - 2017. - № 2 (60). - С. 285-290.
- Поппер К. Логика социальных наук // Вопросы философии. - 1992. - № 10. - С. 65-75.
- Соммэр Д. С. Мораль XXI века. - М. : Кодекс, 2014. - 480 с.
- Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. - М. : Астрель, 2006. - 1 176 с.
- УрриДж. Офшор. - М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. - 288 с.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. - СПб. : Acad, 1994. - 416 с.
- Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества. - М. : Синдбад, 2018. - 512 с.
- Харви Д. Социальная справедливость и город / пер. с англ. Е. Ю. Герасимовой. - М. : Новое литературное обозрение, 2018. - 440 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Гештальт и действительность. - М. : Мысль, 1993. - 663 с.