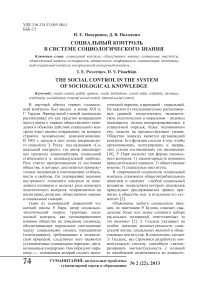Социальный контроль в системе социологического знания
Автор: Поверинов Игорь Егорович, Писачкин Дмитрий Владимирович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные концепции и подходы к изучению социального контроля в системе общественных отношений, институций и социального взаимодействия.
Социальный контроль, общественное мнение, социальные институты, общественный порядок, солидарность, девианшость, конформность, социализация, экстернальный социальный контроль, интернатьный социальный контроль
Короткий адрес: https://sciup.org/14720759
IDR: 14720759 | УДК: 316.334.52:005.584.1
Текст научной статьи Социальный контроль в системе социологического знания
В научный обиход термин «социальный контроль» был введен в конце ХIХ в. Г. Тардом. Французский ученый изначально рассматривал его как средство возвращения преступника к нормам общественного поведения и объяснял действие социального контроля через законы подражания, на которых строятся человеческие взаимоотношения. В 1901 г. вышла в свет книга американского социолога Э. Росса под названием «Социальный контроль», где автор анализировал процессы взаимодействия социальной стабильности и индивидуальной свободы. Росс считал прогрессивными те состояния общества, в которых достигаются промежуточные положения в соотношениях стабильности и свободы. Он подчеркивал значение внутреннего этического контроля за поведением индивида и выделял роль внешнего политического контроля, опирающегося на воспитание, религию, общественное мнение и социальные санкции.
Один из основателей знаменитой чикагской школы Р. Парк, автор социальноэкологической теории, трактовал социальный контроль как целенаправленное влияние общества на поведение индивида, обеспечивающее нормальное соотношение между социальными силами, ожиданиями (эспектациями), требованиями и человеческой природой, следствием чего являются установленные «социальные порядки», организованные в иерархию. Они образуют пирамиду, «…основанием которой служит эколо- гический порядок, а вершиной – моральный. На каждом из последовательно расположенных уровней: экологическом, экономическом, политическом и моральном – индивид оказывается полнее инкорпорированным в социальный порядок, более подчиненным ему, нежели на предшествующем уровне. Общество повсюду является организацией контроля. Его функция состоит в том, чтобы организовывать, интегрировать и направлять усилия составляющих его индивидов» [10]. Р. Парк выделял три формы социального контроля: 1) элементарные (в основном принудительные) санкции; 2) общественное мнение; 3) социальные институты.
В современной социологии социальный контроль становится общеупотребительным понятием и означает «любой социальный механизм, посредством которого индивидов принуждают придерживаться правил, принятых в обществе или в отдельном его сегменте» [2].
Объяснение любого социального явления, по замечанию Р. Будона, означает «выделение более или менее сложного набора каузальных положений, ответственных за это явление» [3]. Э. Гидденс указывает на особое значение контекстуальности социальной жизни, социальных явлений и общественных институтов. В социологии, считает Э. Гидденс, мы стремимся разработать концептуальную систему, способную «категоризировать контекстуальность с позиций ее неизбежной включенности во взаимоот- ношения социальной и системной интеграции» [5]. Применительно к социальному контролю контекстуальность реализуется во множестве версий: в аспектах солидарности и порядка в обществе; в контексте девиантного поведения; через призму социализации, в институциональных практиках (наука, образование, средства массовой коммуникации и др.), в аспекте социальной ответственности и во множестве других форм социального взаимодействия (социальные группы, социальные институты, нормы, санкции, ценности).
Становление социального контроля происходит в процессе развития форм и способов воздействия, применяемых социальными группами для регулирования поведения их членов. Он направлен в первую очередь на тех индивидов, чье поведение отклоняется в положительную или отрицательную сторону от групповых норм. «Группа или коллектив в процессе своего функционирования вырабатывает ряд мер воздействия на своих членов, способов убеждения и внушения, поощрения и наказания, побуждения и принуждения» [9]. Формы социального контроля реализуются в качестве запретов, наказаний и кары, а также предписаний, рекомендаций, стимулов. Благодаря социальному контролю упорядочиваются межличностные взаимоотношения, группа получает возможность функционировать с большим успехом.
Концептуализация социального контроля в социологии происходит в процессе рассмотрения его в качестве социального механизма в различных практиках. Механизм социального контроля действует в контексте солидарности и порядка в обществе. Как установлено в социологии, солидарность возникает между людьми в связи с преобладанием обычаев, объединяющих людей. В солидарности Э. Дюркгейм видел главный психологический смысл обычая или традиции. Солидарность объединяет людей одного общества, интегрирует их сознание, делает более сплоченными и, следовательно, более сильными. Наказание (негативные санкции), следующее за нарушением традиции, лишь способствует поддержанию единства группы. Повсюду, где устанавливается управляющая власть, ее первая и главная функция – это заставить уважать верования, традиции, коллективные обычаи [6].
Становление специальной теории социального контроля происходит в контексте социологического анализа девиантного поведения. Эта тема представлена в работах петербургского периода П. А. Сорокина. В работе «Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали» автор прослеживает динамику применения кар и наград от интенсивного применения в примитивных и антагонистических социальных структурах, до полного исчезновения в желаемом будущем, что весьма скептически воспринимается многими исследователями.
Социальный контроль как составная часть теории девиантного поведения связан с анализом процессов в социальной системе, которые должны противодействовать тенденциям отклонения и условиям, способствующим их развитию. Обращение к проблемам самоубийства, пьянства и алкоголизма, наркомании, проституции, гомосексуализма, преступности, пенитенциарной практики, движение за отмену смертной казни, движение за права человека и другие аспекты девиации форм социального контроля позволяют отметить принципиальную невозможность «искоренить», «ликвидировать», «преодолеть пережитки прошлого», негативное девиантное поведение и отдельные его виды и обнаружить значительное расширение форм социального контроля в виде деятельности общественных организаций (НКО, различные формы самоорганизации).
Как и теория девиантности в целом, социальный контроль соотносится с состоянием равновесия системы и субсистемы, в которых содержатся нормативные модели, институционализированные в данной субсистеме. Эффективность функционирования механизма социального контроля исследователями связывается с балансом мотивационных импульсов, а также с конформностью к таким моделям и отклонением от них. Стабильное равновесие интерактивных процессов – это фундаментальная точка отсчета для анализа социального контроля, точно так же, как и для теории девиантности.
Особое внимание следует уделить процессам взаимодействия, предшествующим тем видам девиантных тенденций, благодаря которым данные процессы могут быть остановлены и вся система возвращена в прежнее состояние равновесия. Это последнее и является, разумеется, теоретической точкой отсчета. В реальности ни одна социальная система не бывает в состоянии совершенного равновесия и полной интеграции. Факторы, мотивирующие девиацию, действуют всегда, и они настолько стабильны, что их невозможно устранить из мотивационной системы акторов. В данном случае механизмы социального контроля связаны с ограничением мотивационной системы акторов и последствий их действия, а также предотвращением распространения этих последствий за пределы отведенных им рамок.
Наряду с негативными формами отклонений (девиантности) в обществе существует и положительная девиация, представленная в форме творческих инноваций. Каждый коллектив по природе вещей предоставляет индивидам определенную сферу частной жизни и определенную степень свободы в выполнении нонконформистских действий. Некоторые социальные роли основываются на том, что они побуждают своих исполнителей к постоянному творчеству и поискам нового. Однако и над этими ролями изобретателей, ученых, артистов и т. п. группы осуществляют контроль, не допуская, чтобы свобода превратилась в открытый бунт, угрожающий основным ценностям и сплоченности группы.
Превентивные, или предвосхищающие, аспекты социального контроля в некотором смысле уже содержатся в тех процессах, которые обучают актора не включаться в девиантные действия. В этом обучении отражен скорее негативный, чем позитивный смысл социализации. Восстановление равновесия, с другой стороны, – это всего лишь особый случай обучения, которое в целом заключается в том, чтобы научить актора вообще не воспринимать аленативные элементы мотивационной структуры.
Ключ к соотношению указанных двух рядов процессов можно обнаружить в этом факте, что как процесс социализации, так и социальный контроль заключаются с определенной точки зрения в процессах адаптации к напряжениям. Напряжения могут присутствовать в девиантной мотивации и из- начально содержаться в ней всегда, так что вторично напряжение может быть введено как способ давления на установившиеся девиантные мотивации [12].
Давление, как можно предположить, не входя в различные психологические тонкости, провоцирует множество типов и компонентов реакций: тревожность, фантазии, враждебность, а также агрессивные скрытые или прямые выпады и защитные меры против попыток уменьшить девиантные проявления в мотивации эго и/или восстановить предыдущий статус-кво. В действительности на каком-то уровне все указанные реакции могут быть интерпретированы в общем смысле, но на многих других уровнях полезно различать эти элементы. Эффективные меры контроля должны в определенном смысле оперировать всеми этими элементами мотивационной структуры.
Обычно данные меры действуют главным образом только на том уровне, который имеет дело с открытым поведением. Это меры, которые с помощью компульсии или путем обращения к рациональному рассуждению, посредством прямого давления или внушения предупреждают определенные действия либо мешают им выйти за существующие рамки. Эмпирические характеристики рассматриваемых аспектов социального контроля очевидны, но наше исследование будет направлено на более тонкую подоплеку мотивационных аспектов.
Первый элемент любого механизма социального контроля в этом смысле можно назвать поддержкой. Ее главное значение связано с компонентом тревожной реакции на напряжение, что дает основу неуверенности, а в результате с необходимостью порождает агрессивно деструктивные или защитные реакции. Поддержка может быть различных видов, но обязательные в ней – включение или удержание эго в отношениях солидарности так, чтобы у него была основа чувствовать себя безусловно в безопасности. Стабильность установок на материнскую любовь в критические периоды социализации – главный пример такой ситуации. Ориентация на коллектив и терапевта, на его готовность «помочь», на его «поддержку» пациента – еще один вид такой ситуации. Эти два вида различаются фундаментально как типы ро- левых моделей, но все же они имеют общий элемент. В определенном смысле следствия поддержки – локализация фокуса напряженности, что дает возможность эго почувствовать, что его беззащитность не «тотальная», что ее можно свести к отдельным проблемам в сфере адаптации.
Совершенно очевидно, что элемент поддержки не может быть безусловным в том смысле, что, как бы эго себя ни вело, оно все равно будет получать от других разрешение на это; в таком случае невозможно было бы держать под контролем мотивацию эго; это прямо стимулировало бы его продолжать, а возможно, и усиливать свою девиантность.
Поддержка не может быть эффективной в деле восстановления доверия, если не будет существовать некоторой доступности для эго той системы моделей, от которой оно отклоняется. Можно сказать, что от людей в состоянии напряжения, независимо от того, полностью ли осознают это напряжение другие или нет, ожидается какой-то вид и какая-то степень отклонения, делают ли они что-то или говорят какие-то вещи, которые не были бы терпимы при других обстоятельствах, если бы их состояние было полностью нормальным.
Существует, следовательно, равновесие между сферой допустимости и ее ограничением. Наиболее важной формой последнего может быть отказ другого подтверждать определенные ожидания, которые у эго возникают под воздействием тревожности, навязчивых фантазий, враждебности и сверхзащиты.
В современной зарубежной социологии специальная теория девиантного поведения и социального контроля достаточно широко представлена в мировой литературе. Однако в России это направление пока «не отрефлек-сировано в истории науки, при существующем отставании от мировой социологии лет на сорок» [13].
Согласно Т. Парсонсу измерение в системе конформность – девиантность присуще концепции социального действия и является центральным для него, а тем самым и для социальных систем [10]. Общие культурные модели, которые составляют часть любой системы социального взаимодействия, всегда нормативны. Существует ожидание конформности к требованию стандарта в том случае, когда соблюдаются конвенции коммуникативной модели. Например, это должно быть выражено понятно. Взаимодо-полнительность ожиданий, которым придается такое огромное значение, предполагает наличие общих стандартов того, что является «приемлемым» или в некотором смысле одобряемым поведением.
Основным принципом настоящего анализа служит рассмотрение всех мотивационных процессов как процессов, происходящих внутри личности индивидуального актора. Но процессы, благодаря которым мотивационная структура отдельной личности становится тем, чем она становится, – это главным образом процессы социальные, включенные во взаимодействие эго со множеством других. Таким образом, факторы мотивации индивида, которые связаны с мотивацией девиантного поведения, представляют собой продукты процессов его социального взаимодействия в прошлом, поэтому вся проблема может быть рассмотрена в терминах социального взаимодействия. При анализе девиантности, точно так же, как и социализации, мы должны сосредоточиться на процессах взаимодействия, таких как ориентация отдельного актора в его ситуации и ориентация его на ситуацию как таковую, включающую прежде всего значимые социальные объекты, а также на нормативные стандарты, которые определяют ожидания по отношению к его роли.
Девиантность и механизмы социального контроля могут быть определены двумя способами в зависимости от того, является ли точкой отсчета отдельный актор или система взаимодействия. В первом случае девиантность – это мотивированная тенденция актора вести себя вопреки одному или нескольким институционализированным стандартам, в то время как механизмы социального контроля представляют собой мотивированные процессы в поведении данного актора и других взаимодействующих с ним, которые в свою очередь имеют тенденцию противодействовать этой девиантности. Во втором случае, в случае системы социального взаимодействия, девиантность – это тенденция со стороны одного или более составляющих систему акторов вести себя таким образом, который нарушает равновесие процесса взаимодействия (его статическое или динамическое равновесие). Девиантность поэтому определяется по ее тенденции оказывать результат либо в виде изменения системы взаимодействия, либо в виде восстановления равновесия с помощью противодействующих сил; в последнем случае это механизм социального контроля. Здесь мы исходим из предпосылки, что такое равновесие всегда предполагает интеграцию действия посредством системы нормативных стандартов, которые более или менее институционализированы.
Очевидно, что такая концепция девиантности как нарушения равновесия системы взаимодействия – весьма важная перспектива для анализа социальных систем. Однако следует совершенно четко осознавать, что большое значение имеет возможность осуществить этот анализ от установления единообразия в процессах изменения в структуре социальной системы.
Теория социального контроля – это составная часть теории возникновения тенденции к девиантному поведению. Здесь мы имеем дело с анализом тех процессов в социальной системе, которые должны противодействовать девиантным тенденциям и условиям, в которых такие тенденции развиваются. Как и теория девиантности в целом, она должна всегда соотноситься, с одной стороны, с состоянием равновесия системы и субсистемы, в которых содержатся конкретные нормативные модели, институционализированные в данной субсистеме, с другой – с балансом мотивационных импульсов, связанных с конформностью к таким моделям и с отклонением от них.
Социальный контроль актуален в контексте практик социализации. Понятие «социализация» рассматривается в современной научной литературе как процесс становления личности. Суть социализации – вхождение индивида в социальную среду, усвоение социальных связей и их воспроизведение. В результате формируется системное качество, означающее приобщенность индивида к обществу. Личность всегда и везде есть общественный статус, обусловленный местом, функцией, ролью индивида в кругу конкретных социальных общностей [11].
Социальный контроль стремится научить социальные группы и личности адаптации к социальным напряжениям. Он адаптирует фрустрационные переживания: тревожность, отчуждение, враждебность, фантазии, агрессию, переживания, защиту от агрессивной среды в форме девиантного поведения, жажду самоутверждения любыми средствами в рыночно-демократическом обществе.
Т. Парсонс фиксирует три всеобщие модели социального контроля: социальной поддержки граждан на институциональной и неформальной основе; определение сферы допустимого – недопустимого в обществе, ограничение взаимных ожиданий и исключение из солидарного общения, коммуникации, кооперации. Комментируя мысль Т. Парсонса, А. А. Гагаев отмечает, что все эти формы имеют смысл, когда поставлены в отношение к правам собственности, доступу личностей к принятию решений власти (если он есть), доступу к ресурсам (или их узурпации), четкому определению статусов, не сегрегации деятельностей по клановым основам, родству. Ни о каком конструктивном социальном контроле, кроме полицейского подавления, нельзя говорить в Евразии – России, где 9/10 социальных групп исключены из принятия решений, ресурсы узурпированы одной тысячей человек и московским псевдоэтносом [4].
Истоки современной теории социализации берут начало в работах Г. Тарда и Э. Дюркгейма. Г. Тард одним из первых дал описание процесса интернализации социальных норм через социальное взаимодействие. В основу своей теории он положил принцип подражания, который трактовал с точки зрения психологических оснований (желания и биологические потребности), а также относил его к социальным факторам (престиж, повиновение и практическая выгода). Отношение «учитель – ученик» Г. Тард назвал типовым социальным отношением, воспроизводящимся на различных уровнях социальной реальности.
-
Э. Дюркгейм обратился к проблеме ин-териоризации нравственных категорий и ценностей группы. Согласно ему общество – «не простая сумма индивидов, которые приносят, вступая в него, какую-то внутреннюю нравственность; человек моральное суще-
- ство только потому, что он живет в обществе, ибо нравственность состоит в том, чтобы быть солидарным с группой, и она изменяется вместе с этой солидарностью» [6]. Он также указывал, что любое общество стремится сформировать человека в соответствии с имеющимися у него некими универсальными моральными, интеллектуальными и даже физическими идеалами.
В ХХ в. в научной литературе утверждается представление о социализации как той части процесса становления личности, в рамках которой формируются наиболее общие, распространенные, устойчивые ее черты, проявляющиеся в социально организованной деятельности, регулируемой ролевой структурой общества. Согласно Т. Парсонсу универсальная задача социализации состоит в том, чтобы сформировать у вступающих в общество молодых поколений чувства, как минимум лояльности и как максимум, преданности социальной системе. Индивид вбирает в себя общие ценности в процессе общения со «значимыми другими», в результате чего следование общезначимым нормативным стандартам становится частью его мотивационной структуры, его потребностью.
Французский социолог Р. Лапьер рассматривает социальный контроль в качестве средства для обеспечения процесса усвоения каждым человеком различных элементов сложившейся в данном обществе культуры, ее норм и ценностей. Ценности, нормы и поведенческие привычки передаются в процессе социализации от одного поколения к другому. Общество выживает с помощью институциональных норм и тех общечеловеческих ценностей, которые усваиваются и передаются в процессе социализации.
П. Бергер и Б. Бергер определяют социализацию как введение массового действия в социальный контекст и исследуют ее в двух аспектах: контроля и инициации. Взгляд на социализацию как на насаждение контроля извне, поддерживаемого системой награждения и наказания, они называют «полицейской точкой зрения». Альтернативная позиция позволяет им рассматривать социализацию как инициацию. «В таком аспекте социализация является сущностной частью процесса становления полноценного человека и осознания реального потенциала индивида» [2].
Многие авторы подчеркивают мысль о том, что сила социального контроля в полной мере реализуется в институциональной практике образования и воспитания. В концепции Э. Дюркгейма воспитание трактуется как социальный институт и включает в себя образование. По его мысли, социология как наука о социальных институтах «поможет нам понять, чем являются, или предположить, чем должны быть воспитательные институты. Чем лучше мы знаем общество, тем лучше мы сможем объяснить себе все, что происходит в том социальном микрокосме, каковым является школа» [6].
В научном дискурсе последней четверти ХХ в. развернулась дискуссия о месте, роли и статусе воспитательных институтов современного общества. Теоретическим оплотом борьбы против категории воспитания и воспитания как социальной практики явился постмодернизм – философия, культурная традиция, своеобразная методология. Традиция постмодернизма берет свое начало от идей «новых левых» 1960-х гг. (Г. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймера). Вторым его истоком стал ряд общественных движений, одно из которых – «Группа информации о тюрьмах» (1971–1972 гг.) – возглавил известный методолог науки М. Фуко. В это же время возникло движение антипсихиатрии, а позже и движение антипедагогики.
Имеющий мощный разрушительный потенциал постмодернизм обрушился с критикой на теории «репрессивного» трактования личности с целью ее всемерной эмансипации от всех форм общественного давления на нее. Поэтому в первую очередь объектом критики стали тюрьмы, а также система психиатрических практик (антипсихиатрия), образование и воспитание (антипедагогика) и другие социальные институты.
Авторитетными выразителями идей антипедагогики являются Е. Браунмюль, автор книги «Антипедагогика. Очерки к упразднению образования» (1975) и Г. фон Шенебек, среди известных работ которого – «Антипедагогика в диалоге» (1989) и «Защита государственного образования» (1982). Эти авторы рассматривают воспитание и образование как способы манипуляции и контроля, в которых взрослый узурпирует право диктовать ребенку свою волю. По их мнению, ребенок сам со дня рождения знает, что для него благо, и он не является воспитуемым существом, поскольку способен взять на себя ответственность за себя. Поэтому воспитание есть не что иное, как подавление ребенка взрослым, основанное на страхе и подчинении нормативным требованиям. «Нет педагогики, – указывает Е. Браунмюль, – которая не была бы более или менее явным террором». Воспитательный акт он характеризует как смерть, как промывку мозгов и души человека. Тот, кто хочет воспитывать ребенка, стремится его разрушить.
На основе радикальной критики института воспитания представители антипедагогики формулируют методологические принципы своей концепции, которую называют концепцией открытого образования и само-определяемого обучения. Эта концепция базируется на следующих принципах: 1) спонтанной автономии ребенка, который требует поддерживать, а не воспитывать, рассматривать взрослого как друга и партнера ребенка, отношения между которыми должны носить симметрический характер; 2) субъективистской интерпретации разума и релятивизма истины, согласно которому существует столько истин, сколько существует людей; 3) плюрализма ценностей и интересов в их конкуренции и отсутствия какого-либо консенсуса. А поскольку современное общество – это общество без фундаментальных ценностей, преподаватель не имеет права признавать общезначимые цели воспитания и образования.
Критиком идей антипедагогики на Западе является Р. Р. Вагнер, который в книге «Постмодернистское мышление и педагогика: критический анализ философско-антропологической перспективы» (1997) прямо указал, что постмодернистская идеология нацелена на радикальное изменение сознания и культурную революцию. Российский философ А. П. Огурцов отмечает, что кредо постмодернистской философии и ее философии образования базируется на подмене принципов фальсификатами. В ней предлагается «вместо усилий мысли – спонтанность, вместо ответственности – произвол, вместо регулятивных норм – консенсус, вместо ценностей – договоренности, не имеющие обязательного характера и не предполагающие доверия и ответственности, вместо реальности – симулякры, вместо интенциональности – коммуникативность, вместо истины – убеждение» [10].
Идеи антипедагогики последовательно и четко воплощались на новейшем этапе истории российского общества. Демонтаж системы воспитания в этот период явился элементом разрушения общества и повлек за собой последствия, динамика которых фиксируется в новейшей истории ее методами и системой социологического мониторинга.
Как следует из всего вышесказанного, в современной трактовке понятие социализации доминирует онтогенетический аспект, когда она рассматривается главным образом как элемент жизненного цикла, процесс, в течение которого индивид обучается быть членом общества. Соответственно понятие «социализация» сместилось в эпицентр микросоциологии и стало ассоциироваться со способами формирования умений и социальных установок индивидов, соответствующих их социальным ролям (Н. Смелзер, Э. Гидденс и др.).
В некоторой оппозиции подобной трактовке находится попытка В. В. Ильина с соавторами, включившими проблемы социализации отдельным разделом в структуру макросоциологии, а также аргументы А. В. Мудрика, рассматривающего социализацию как совокупность микрофакторов, мезофакторов, макрофакторов и мегафакторов внешней среды, воздействующих на индивида. В 1977 г. в русском переводе в свет вышла книга французского социолога Ф. Сен-Марка под названием «Социализация природы». Идея, выраженная в данном названии, на наш взгляд, требует современного переосмысления и признания социализации в филогенетической версии, в рамках которой термин «социализация природы» обретает свойственный этому процессу исторический смысл и определенное социокультурное содержание.
-
А. И. Каптерев описывает содержание этого процесса как «новую волну», опираясь на идею Б. Макферсона, предлагающего различать социализацию как форму социального обучения (в версиях функционализма или интеракционизма) и как путь
развития общественных отношений с точки зрения социализирующейся социальной жизни, а следовательно и признания социального контроля в качестве важнейшего механизма социализации [8].
Таким образом, социальный контроль есть особый вид социальной практики, обеспечивающий эффективную саморегуляцию социальных систем, выполнение ими важнейшей функции поддержки устойчивого существования, развития и воспроизводства социума на любых уровнях его организации;
Важной теоретической задачей остается выявление динамических состояний социального контроля в качестве механизма преодоления девиации и в процессе социализации, в единстве взаимодействия его внутренних и внешних составляющих как социально-философских и методологических оснований гуманитаризации социума [1].
Разработанный механизм социального контроля в социологии при использовании в других отраслях рассматривается как социологизм, характеризуемый как положительное свойство и качество экстернального социального контроля, главным образом, в контексте девиации (положительной и от- рицательной) и социализации (первичной, вторичной, а также, ресоциализации).
Социальный контроль – главный маркер в теории социального пространства Функция социального контроля является одной из важнейших в гармонизации общественного пространства. Понятие «общественное пространство» широко употребляется [14] наряду с понятиями «социальное пространство» (П. А. Сорокин, П. Бурдье) «жизненное пространство социума» (Ф. Ратцель и др.) [12]. Оно позволяет более точно представить качественные аспекты связи личности и общества, механизмы социализации и саморазвития личности. Элементами общественного пространства выступают гражданское общество, государство, регионы, национальные и национально-этнические субъекты управления, трудовые и бытовые ассоциации.
Одна из функций общественного пространства – социальное обустройство граждан, удовлетворение их социальных потребностей не только в сфере производства, но и в ассоциированном распределении материальных и духовных благ, в достойном образе жизни, в реализации прав и свобод каждой личности и расширении связей личности с обществом.
Список литературы Социальный контроль в системе социологического знания
- Арсентьев Н. М. Академическая и университетская гуманитарная наука в формировании общероссийской идентичности: региональная практика гражданско-патриотическош и духовно-нравственного воспитания//Интеграция образования [Саранск]. -2008. -№ 4. -С. 83
- Бергер П. Социология : Биографический подход//П. Бергер, Б. Бергер, Р. Коллинз // Личностно ориентированная социология. - М., 2004. - 608 с.
- Будок Р. Социальные механизмы без «черных ящиков»/Р. Будон//Социология XXI века. Новые направления исследований. -М., 1998. -С. 109
- Гагаев А. А. Социализация и социальный контроль в Евразии. Наука и искусство/А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. -Саранск, 2007. -340 с
- Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации/Э. Гидденс. -М., 2003. -526 с.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда/Э. Дюргейм. -М., 1996. -432 с.
- Ильин В. В. Макросоциология: учебник/В. В. Ильин, Б. Ф. Кевбрин, В. А. Писачкин. -Саранск, 2004. -304 с.
- Каптерев А. И. Инфрматизация социокультурного пространства/А. И. Каптерев. -М., 2004. -С. 5-7.
- Коллектив. Личность. Общение: словарь соц.-психол. понятий. -Л., 1987. -144 с.
- Огурцов А. П. Постмодернистский образ человека и педагогика/А. П. Огурцов//Человек. -2001. -№ 3. -С. 9.
- Парсонс Т. О социальных системах/Т. Парсонс. -М., 2002. -832 с.
- Писачкин В. А. Социология жизненного пространства/В. А. Писачкин. -Саранск, 1997. -182 с.
- Социология в России/под ред. В. А. Ядова. -М., 1998. -696 с.
- Черников В. Г. Общественное пространство: социально-философский анализ/В. Г. Черников. -Воронеж, 1984. -165 с.