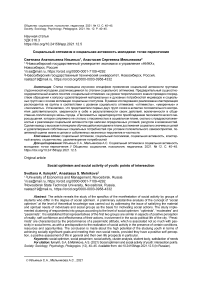Социальный оптимизм и социальная активность молодежи: точки пересечения
Автор: Светлана Анатольевна Ильиных, Анастасия Сергеевна Мельникова
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 12, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению специфики проявления социальной активности группами студенческой молодежи, различающимися по степени социального оптимизма. Предварительный сущностно-содержательный анализ понятия «социальный оптимизм» на уровне теоретического знания проведен посредством обращения к вопросу удовлетворения материальных и духовных потребностей индивидов и социальных групп как к основе мотивации социальных поступков. В рамках исследования реализована кластеризация респондентов на группы в соответствии с уровнем социального оптимизма: «оптимисты», «умеренные» и «пессимисты». Установлено, что представители первых двух групп схожи в аспектах положительного восприятия действительности, уверенности в себе и результативности своих действий, вовлеченности в общественно-политическую жизнь города. «Пессимисты» характеризуются преобладанием пессимистического мироощущения, которое сопряжено не столько с пассивностью в социальном плане, сколько с предрасположенностью к реализации социальной активности при наличии определенных условий, ресурсов и возможностей. Сделан вывод о высоком потенциале обучающейся молодежи в плане достижения социально значимых целей и удовлетворения собственных социальных потребностей при условии положительного самовосприятия, позитивной оценки жизни в целом и собственных жизненных перспектив в частности
Социальный оптимизм, социальный пессимизм, социальная активность, кластерный анализ, студенчество, удовлетворение потребностей
Короткий адрес: https://sciup.org/149138752
IDR: 149138752 | УДК: 316.3 | DOI: 10.24158/spp.2021.12.5
Текст научной статьи Социальный оптимизм и социальная активность молодежи: точки пересечения
Мировые события первых десятилетий нового века, кризисные реалии (военно-политические противостояния, международные конфликты, террористические атаки, финансово-экономические кризисы, пандемия COVID-19 и др.) неодинаково сказываются на жизни представителей разных социальных групп. Одни группы оказываются более защищенными морально-психологически, социально и финансово в сравнении с другими. В качестве одной из таких групп часто рассматривается молодежь вследствие наличия у нее таких качеств, как гибкость мышления и поведения, техническая подкованность, высокая социально-трудовая и пространственная мобильность, сравнительно высокий уровень физического здоровья, бодрость, жизнелюбие и оптимистичность. Причем именно оптимизм молодежи как личностный ресурс, «предрасположенность человека верить в свои силы и успех, иметь преимущественно положительные ожидания от жизни и других людей» (Арскиева, 2016: 170) играет особую роль в процессе формирования и становления личности как субъекта собственного и общественного развития, т. е. как субъекта социальной активности.
В рамках данной работы рассмотрена специфика проявления социальной активности группами студенческой молодежи, различающимися по уровню социального оптимизма.
Истоки зарождения понятий «оптимизм» и «пессимизм» и историю изучения соответствующих социальных явлений можно проследить в трудах В.Б. Колмакова (2013), А.Н. Круглова (2018), А. Саттара (2018), Н.А. Уточкина (2017) и др. В работах современников также раскрывается многообразие форм проявления пессимизма и оптимизма (Арскиева, 2016), анализируется изменение смысловой нагрузки рассматриваемых понятий в соответствии с трансформационными процессами, протекающими в обществе, и изменениями условий жизнедеятельности (Темницкий, 2016), исследуются модели оптимизма и пессимизма как измеряемых конструктов (Дитятев, 2011) и пр.
Спецификой социологической интерпретации изучаемого явления – оптимизма как качества личности и способа мировосприятия – выступает представление о нем как об основе мотивации социальных поступков, личностном свойстве, оказывающем влияние на выбор моделей поведения, ролевой позиции, способе формирования жизненных стратегий, выбора целей и средств их достижения. В этом смысле более корректно использовать понятие « социальный оптимизм ».
Ш.Х. Боташева трактует социальный оптимизм как «систему социально-психических состояний субъекта, определяющую целенаправленность, ценностную избирательность его жизненных отношений с социальной реальностью и обеспечивающую как преобразовательную деятельность социальных изменений, так и конкретный этап развития общества и цивилизации»1. Такой подход говорит о наличии ресурсного потенциала социального оптимизма и в целом переводит оптимизм в разряд инструментальных ценностей на личностном и общественном уровнях.
В интерпретации Т.Н. Духиной социальный оптимизм представляется своеобразным благоприятным прогнозом возможности реализации индивидом своих потребностей в рамках общества (2014). Необходимость удовлетворения потребностей, в свою очередь, является ведущим мотивом активных действий человека. При этом социальный оптимизм со свойственной ему верой в прогрессивный характер развития общества ориентирован на преобразование социальной действительности. Понимание социального оптимизма как ресурса активности в аспекте осуществления социальных изменений предполагает реализацию социальной активности . Последнюю мы рассматриваем как «сознательную, определенным образом мотивированную и са-морегулируемую деятельность субъекта, направленную на достижение социально значимых целей и удовлетворение его социальных потребностей» (Фролова, Николаева, 2010: 17). С учетом этого социальный оптимизм может трактоваться как социально-психологический фактор трансформации социальной реальности.
Таким образом, следует говорить о взаимообусловленности социального оптимизма и действий индивида, в том числе таких, которые можно идентифицировать как проявления социальной активности. Социальный оптимизм характеризуется позитивным само- и мироощущением, верой в собственные силы и возможностью реализации субъектной позиции в отношении своей жизни и жизни общества, удовлетворения своих потребностей, надеждой на лучшее будущее и убежденностью в прогрессивном характере развития общества. Указанные характеристики формируют потенциал социального оптимизма как фактора социальной активности, реализуемой по поводу удовлетворения потребности в преобразовании социальной реальности. Одновременно социальный оптимизм зависит от возможностей удовлетворения материальных и духовных потребностей в рамках общества и реализации творческого и социокультурного потенциала.
Для проверки теоретических положений в ноябре 2018 г. – феврале 2019 г. проведено социологическое исследование по теме «Студенчество сегодня». Метод исследования – анкетиро- вание. Тип выборки – многоступенчатая с применением гнездовой (серийной) выборки на последнем этапе отбора. Анализируемая совокупность – студенты вузов Новосибирска очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (n = 438 чел.). Были опрошены обучающиеся Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ), Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), Новосибирского государственного университета (НГУ), Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ).
В целях выделения групп респондентов, различающихся по уровню социального оптимизма, применен метод кластеризации k-средними. Выбор данного метода диктуется объемом выборочной совокупности и характером имеющейся эмпирической информации. В основу кластеризации положены следующие признаки: длительность пребывания во власти негативных эмоциональных состояний (нервозности, напряженности, беспокойства), удовлетворенность жизнью, степень уверенности в будущем.
По итогам процедуры сформированы три следующих кластера.
-
– Первый образован респондентами, которые редко испытывают негативные эмоции, довольны жизнью и с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее. Присвоенное кластеру наименование – « оптимисты ». Его представители составили 45 % совокупности опрошенных.
-
– Второй сформирован респондентами, подверженными нервозности, раздражительности, тревоге, смотрящими в будущее со смешанным чувством, но при этом в целом удовлетворенными своей настоящей жизнью. Кластеру присвоено наименование « умеренные ». Доля его представителей в исследуемой совокупности – 40 %.
-
– Третий включал респондентов, почти все время испытывающих негативные чувства и эмоции, недовольных своей жизнью, но смотрящих в будущее, аналогично представителям второго кластера, со смешанным чувством. Представители кластера, обозначенные как « пессимисты », составили 15 % выборочной совокупности.
Далее приведен анализ оценок, данных представителями разных кластеров имеющимся у них возможностям, ресурсам и опыту реализации социальной активности. Одна из ключевых характеристик социального оптимизма – позитивное восприятие действительности. Члены всех кластеров преимущественно положительно (в среднем 60 % ответов «пожалуй, удовлетворен» и «полностью удовлетворен» суммарно) оценили существующие в городе возможности для проведения досуга, самореализации в рамках творческой, волонтерской и спортивной деятельности . Такие условия проживания в городе, как функционирование сферы обслуживания, доступность образования, товаров и услуг, безопасность жизнедеятельности, возможности трудоустройства, самореализация в рамках общественной деятельности , удостоились в основном положительных оценок «оптимистов» и «умеренных» (в среднем 60 и 52 % соответственно), а также нейтральных и отрицательных оценок «пессимистов» (в среднем 64 % суммарно). Относительно остальных условий проживания ( работы правительства города и области, правоохранительных органов, функционирования социальных программ, возможности трудоустройства, доступности жилья ) «оптимисты» высказывались главным образом позитивно (в среднем 46 %), «умеренные» – нейтрально (в среднем 45 %), «пессимисты» – нейтрально или негативно (в среднем 47 и 33 % соответственно). Одинаково низко представители всех кластеров оценили возможности для отстаивания своих политических убеждений (в среднем 37 % ответов «пожалуй, не удовлетворен» и «совершенно не удовлетворен» суммарно).
Несхожесть суждений и взглядов представителей разных кластеров просматривается и в отношении их собственной личности. Так, около 70 % опрошенных «оптимистов» убеждены, что умеют поддерживать отношения со сверстниками своего и противоположного пола, тогда как доля таковых среди «пессимистов» и «умеренных» составила примерно 50 %. В противовес членам остальных кластеров не удовлетворены своими интеллектуальными способностями и внешним видом главным образом «пессимисты» (16 и 43 % соответственно). В ответах «умеренных» во всех случаях превалировали нейтральные и положительные оценки.
Исходя из понимания социального оптимизма как мироощущения, благоприятствующего активным действиям по реализации потребностей различного уровня, проанализированы жизненные цели и устремления молодежи (таблица 1). Ответы представителей всех кластеров схожи между собой. Среди ключевых жизненных целей: «обеспечить достойную жизнь своей семье, детям», «много путешествовать, видеть мир». При этом «оптимисты» чаще остальных высказывали желания «основать свое дело, свой бизнес», а «пессимисты» – «жить за границей». В этом могут просматриваться большая готовность к риску «оптимистов» и вера «пессимистов» в «лучшую жизнь» за пределами страны.
Таблица 1 – Жизненные цели и устремления представителей разных кластеров, % опрошенных
|
Вариант ответа |
Кластер |
||
|
«Оптимисты» |
«Умеренные» |
«Пессимисты» |
|
|
Получить хорошее образование |
13 |
11 |
8 |
|
Всего добиться своим трудом |
9 |
10 |
10 |
|
Жить за границей |
5 |
5 |
9 |
|
Заработать большие деньги |
9 |
8 |
9 |
|
Сделать карьеру |
10 |
10 |
10 |
|
Основать свое дело, свой бизнес |
10 |
7 |
8 |
|
Добиться власти |
3 |
1 |
1 |
|
Развлекаться, приятно проводить время |
4 |
6 |
5 |
|
Обеспечить достойную жизнь своей семье, детям |
16 |
16 |
17 |
|
Много путешествовать, видеть мир |
12 |
12 |
11 |
|
Приносить пользу людям, обществу |
6 |
8 |
6 |
|
Испытывать острые ощущения |
1 |
1 |
1 |
|
Отделиться от родителей и стать независимым |
2 |
4 |
5 |
|
Другое |
1 |
1 |
0 |
Основные помехи реализации жизненных планов, отмеченные представителями всех кластеров, также примерно одинаковы (таблица 2): низкие материальные возможности, недостаточное трудолюбие, лень, неуверенность в себе, собственных силах. В качестве препятствия «пессимисты» чаще остальных отмечали семейные обстоятельства. «Оптимисты» выделяются убежденностью в том, что «ничего не мешает, чего хочу – того добьюсь». Такие результаты подтверждают правомерность приписывания оптимистам внутреннего (интернального) локуса контроля, когда индивид берет ответственность за происходящие в жизни события на себя, а пессимистам – внешнего (экстернального), предполагающего перекладывание ответственности на других людей и обстоятельства.
Таблица 2 – Мнения представителей разных кластеров о том, что мешает или может помешать в будущем выполнению их жизненных планов, % опрошенных
|
Вариант ответа |
Кластер |
||
|
«Оптимисты» |
«Умеренные» |
«Пессимисты» |
|
|
Низкие материальные возможности |
10 |
13 |
12 |
|
Слабое здоровье |
4 |
4 |
6 |
|
Отсутствие собственного жилья |
4 |
5 |
6 |
|
Недостаточное трудолюбие, лень |
12 |
11 |
9 |
|
Политика государства |
9 |
8 |
8 |
|
Низкий культурный уровень |
1 |
1 |
2 |
|
Семейные обстоятельства |
2 |
1 |
4 |
|
Нестабильная обстановка в стране |
9 |
7 |
8 |
|
Недостаток силы воли, упорства |
5 |
7 |
5 |
|
Неудачный выбор профессии |
3 |
5 |
5 |
|
Невысокое качество образования |
2 |
3 |
2 |
|
Безынициативность, ненастойчивость |
5 |
5 |
5 |
|
Отсутствие личных связей с нужными людьми |
8 |
8 |
7 |
|
Неуверенность в себе, собственных силах |
10 |
10 |
11 |
|
Недостаточная родительская поддержка |
0 |
1 |
2 |
|
Нет ясных целей в жизни |
6 |
6 |
5 |
|
Ничего не мешает, чего захочу – того добьюсь |
10 |
3 |
2 |
В целом близость ответов респондентов на вопросы, касающиеся жизненных целей и проблем в их достижении, говорит о высокой однородности рассматриваемой социальной группы, в том числе в плане понимания жизнеобеспечивающих факторов (образования, карьеры, достойного дохода) и следования некой моде на жизненные цели (например, путешествия как способ познания мира и самого себя), одинаковой оценке реальности с точки зрения эффективности и ограничений использования тех или иных ресурсов.
Далее подробнее рассмотрены потребности, удовлетворяемые посредством реализации социальной активности как способа выражения субъектной позиции индивида в отношении достижения социально значимых целей. Стремление к саморазвитию и творческой самореализации является одним из основных стимулов активной общественной деятельности представителей всех кластеров (примерно 15 % ответов в каждом кластере). Вместе с тем схожую ценность для респондентов имеет перспектива получения опыта работы, в то время как первое место по ответам занял вариант «знакомство с нужными людьми» (в среднем 14 и 21 % ответов в каждом кластере соответственно). Это говорит о прагматизме участников исследования. Последний из указанных вариантов ответа оказался наиболее значимым для «оптимистов» (25 %), которые также чаще остальных отмечали «стремление развивать лидерские качества» (13 %). «Пессимисты» чаще представителей других кластеров выделяли потребность в дружеских отношениях (9 %). Принесение пользы окружающим как цель общественной деятельности назвали в среднем 8 % членов каждого кластера.
Общественно-политическая жизнь города вызывает интерес главным образом у «оптимистов» и «умеренных» (по 28 % в каждом кластере), среди «пессимистов» 22 % интересующихся. При этом противоположный ответ («нет, интереса не вызывает») чаще давали «умеренные» (26 %) в сравнении с таковыми «пессимистов» и «оптимистов» (по 18 %). Схожая ситуация наблюдается с представлениями респондентов о значимости деятельности общественных молодежных организаций: необходимость и эффективность их функционирования отмечали чаще «оптимисты» и «пессимисты», в то время как отрицали их действенность и вклад в развитие гражданского общества или затруднились с оценками в основном «умеренные».
Около 20 % представителей каждого кластера участвуют в деятельности тех или иных молодежных объединений, неформальных групп, клубов. Не участвуют и не хотят – около половины «умеренных» и «оптимистов», в то время как 43 % «пессимистов» не участвуют, но хотели бы. Чаще всего (в среднем свыше 15 % опрошенных в каждой группе) респонденты отмечали факт своего участия в деятельности таких общественных молодежных организаций, как студенческие объединения (профсоюз студентов, бизнес-инкубатор, клуб интеллектуальных игр и др.), институты студенческого самоуправления (студсовет, студенческий актив и др.), спортивные, туристические, морские клубы, авто-, авиаклубы. «Оптимисты» чаще других указывали на наличие членства в молодежных политических союзах, партиях, парламенте, участие в молодежных движениях (13 %), в то время как «пессимисты» обычно упоминали военно-патриотические объединения, поисковые отряды (9 %), неформальные группы (в том числе фанатские объединения) (16 %), а также творческие коллективы (музыкальные группы, КВН и др.), наряду с «умеренными» (по 13 % каждого кластера).
Однозначную готовность к реализации какого-либо проекта ради общего блага в вузе, городе, по месту жительства, в студенческой группе высказали около трети «пессимистов» и «оптимистов», в то время как аналогичная доля «умеренных» указала на категоричное нежелание этим заниматься. Ожидают материального вознаграждения при этом каждый пятый из «умеренных» и «пессимистов» и 15 % «оптимистов». Также «пессимистам» больше свойственна нерешительность в действиях («хотелось бы, но не знаю к кому обратиться»). При этом среди назвавших свои проекты по 43 % «оптимистов» и «умеренных» и 14 % «пессимистов». Направления деятельности у представителей всех кластеров оказались схожими: помощь бездомным животным, проблемы экологии, межнациональных отношений, борьба с вредными привычками на уровне общества.
Безусловную результативность даже незначительных активных действий граждан декларируют в основном «оптимисты» (35 %). Примерно такая же доля «пессимистов» считают, что отдельный человек мало что может и нужно собрать единомышленников. «Умеренные» отметили необходимость больших усилий (26 %), материальных вложений и активизации связей и знакомств (17 %). О тщетности любых действий и невозможности повлиять на решение общественных проблем также чаще других говорили «умеренные» (12 %), в то время как «пессимисты» продемонстрировали склонность к фатализму, отмечая вариант «все решено без нас» (12 %).
Таким образом, социальную активность реализуют представители всех кластеров, но в разных сферах и формах, что не позволяет говорить о социальной пассивности «пессимистов». Взгляды и суждения последних не отличаются категоричностью («хотел бы предложить проект ради общественного блага, но не знаю, к кому обратиться»), практики социальной активности в том или ином формате они реализуют, потребность в коммуникации и построении дружеских отношений им также присуща, а значит, общее преобладание в данной группе пессимистического мироощущения сопряжено не столько с пассивностью в социальном плане, сколько с перспективой активности при наличии определенных условий, ресурсов и возможностей.
По итогам исследования можно констатировать наличие высокого потенциала студенческой молодежи в плане достижения социально значимых целей и удовлетворения собственных социальных потребностей при условии положительного самовосприятия, позитивной оценки жизни в целом и собственных жизненных перспектив в частности. Кроме того, молодые люди обладают возможностью отстаивания своих взглядов и убеждений, а также убежденностью в способности контролировать собственную жизнь и оказывать влияние на социальную жизнь.
Список литературы Социальный оптимизм и социальная активность молодежи: точки пересечения
- Арскиева З.А. Исследование оптимистического и пессимистического мировосприятия студентов // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 4 (59). С. 169–171.
- Дитятев А.Ю. Концепция жизненных сил человека как методологическая основа социологического изучения феноменов оптимизма и пессимизма в современном обществе // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 4-2 (29). С. 198–203.
- Духина Т.Н. Социальный оптимизм и социальный пессимизм в оценке социального самочувствия сельских жителей // Вестник АПК Ставрополья. 2014. № 2 (14). С. 222–226.
- Колмаков В.Б. Феномен оптимизма // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Философия. 2013. № 1 (9). С. 40–56.
- Круглов А.Н. Проблема оптимизма у Канта: возникновение спора // Кантовский сборник. 2018. Т. 37, № 1. С. 9–24. https://doi.org/10.5922/0207-6918-2018-1-1.
- Саттар А. Основы критической метафизики А. Шопенгауэра // Философская антропология. 2018. Т. 4, № 2. С. 117–151. https://doi.org/10.21146/2414-3715-2018-4-2-117-151.
- Темницкий А.Л. Социокультурные факторы оптимизма современной молодежи России // Социологическая наука и социальная практика. 2016. Т. 4, № 4 (16). С. 19–35. https://doi.org/10.19181/snsp.2016.4.4.4760.
- Уточкин Н.А. Оптимизм как научная проблема в структуре гуманитарного знания // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2017. № 1 (274). С. 210–212.
- Фролова Н.А., Николаева А.А. Социальная активность современной российской молодежи. Орел, 2010. 124 с.