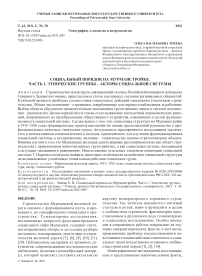Социальный порядок на Мурманстройке. Часть 1. Этнические группы - акторы социальной системы
Автор: Змеева Ольга Васильевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 8 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Строительство магистрали, связывающей столицу Российской империи и побережье Северного Ледовитого океана, представлено в статье как процесс создания региональных общностей. Ключевой является проблема соответствия социальных действий ожиданиям участников строительства. Объект исследования - стражники, завербованные для охраны и наблюдения за рабочими. Выбор объекта обусловлен промежуточным положением групп нижних чинов в системе подчинения - руководства. Целью первой части статьи стало выявление последствий управленческих решений, направленных на преобразование общественного устройства, изменивших в целом функциональность социальной системы. Сделан вывод о том, что социальная структура на Мурманстройке в 1915-1916 годах формировалась преимущественно на основе представлений руководства о профессиональных качествах этнических групп. Актуальность предпринятого исследования заключается в использовании социологического подхода, применяемого для изучения функционирования социальной системы, к историческому явлению - строительству военно-стратегического объекта. Новизна состоит в том, что Мурманская железная дорога впервые рассматривается не как объект строительства с привлечением многочисленных групп рабочих, а как социальная система, находящаяся в ситуации «подвижного равновесия». Использование отдельных элементов концепции социальной системы Т. Парсонса позволило выявить некоторые особенности воздействия социальной структуры на возникновение устойчивых типов взаимодействия этнических групп.
Мурманская железная дорога, 1915-1916 годы, социальная система, социальная структура, актор, этнические группы
Короткий адрес: https://sciup.org/147236225
IDR: 147236225 | УДК: 930.253(98) | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.695
Текст научной статьи Социальный порядок на Мурманстройке. Часть 1. Этнические группы - акторы социальной системы
Строительство Мурманской железной дороги связано с формированием пусть и временного, но специфического социального про-странства1. Гуманитарные исследования, посвященные вопросам функционирования социального мира Мурманки, содержат систематизированные обзоры и детальные разборы поэтапного планирования, подготовки и строительства железной дороги [3], [6], [9], [10], [11], [20]. Публикуемые выдержки из архивных документов, сопровождающие исследовательские наблюдения, включают разнообразный материал, который позволяет составить актуальную картину императорского дорожного строительства. Так, читатель знакомится с системой статусов и ролей, норм и функций и в целом с сообществом строителей, фрагментарно представленным в различного рода гуманитарных и социальных исследованиях. Особое внимание в современных работах направлено на изучение микроисторических фактов, в частности, проясняющих проблему сосуществования и повседневного взаимодействия этнических и социальных групп искусственно созданного сообщества строителей дороги [1], [2], [14].
Монографические исследования, восстановившие и представившие многочисленные факты,
связанные с историей планирования и процессом сооружения, с проблемами и препятствиями, сопровождавшими масштабную стройку, а также с последствиями и значением этого исторического события, продолжают сохранять актуальность [3], [4], [6], [10]. В отечественной и мировой науке появился ряд публикаций, основанных на ранее неизвестных архивных материалах, где отражены повседневность, взаимодействия, проблемы и конфликты групп рабочих Мур-манки [4], [5], [15], [17], [18], [19]. По-прежнему остаются недостаточно изученными события этносоциальной жизни, происходившие вокруг объектов железнодорожного строительства. В частности, требуют научного осмысления опыт искусственного создания полиэтнической общности, последствия массовой миграции (как добровольной, так и принудительной) для функционирования временной общности2.
Исходным допущением является предположение о том, что Мурманская железная дорога образца 1915–1916 годов – пример (пусть и временного) формирования региональных сообществ. Создание социума происходило во многом за счет ускорения иммиграционных процессов, использования труда огромных масс мигрантов, а также вербовки квалифицированных специалистов.
За неимением внутренних трудовых резервов, которые можно было использовать для реализации строительного замысла, Управление работ по постройке Мурманской железной дороги (далее – Управление) последовательно использовало различные модели привлечения рабочих на стройку3. Наиболее распространенными способами компенсировать недостаток рабочих рук стали мобилизация крестьян из различных регионов страны, вербовка рабочих, ранее участвовавших в деле железнодорожного строительства, «трудотерапия» военнопленных. Добровольная трудовая миграция – это существенная часть пополнения общества строителей новыми членами, которые в свою очередь, присутствуя в жизни местного населения, создавали семьи, увеличивая население регионов.
Многотысячная армия рабочих требовала организации, контроля и координации со стороны административной власти. Исторические и социально-антропологические исследования показывают, что выбранная система управления и координации при всех ее недостатках и, как сегодня принято говорить, сопутствующих потерях имела результатом появление всего через полтора года незавершенной, но вполне функционировавшей железной дороги. Задачи настоя- щей работы – рассмотреть влияние, с одной стороны, сформированной Управлением социальной структуры и, с другой стороны, социальных ожиданий участников строительства на возникновение образцов поведения и устойчивых типов взаимодействия индивидов (отдельных групп) на строительстве Мурманской железной дороги, а также выявить механизмы поддержания должного функционирования временного железнодорожного сообщества.
Актуальность предпринятого исследования заключается в использовании социологического подхода, применяемого для изучения функционирования социальной системы, к историческому явлению – строительству железнодорожной магистрали. Новизна состоит в том, что Мурманка впервые рассматривается не как объект строительства с привлечением многочисленных групп рабочих, а как социальная система, находящаяся в ситуации «подвижного равновесия» (термин Т. Парсонса). Использование отдельных элементов концепции социальной системы позволяет выявить некоторые особенности воздействия социальной структуры, сформированной на строящихся объектах, на возникновение устойчивых типов взаимодействия этнических групп на строительстве Мурманской магистрали в 1915–1916 годах.
Данная статья является первой частью исследования, нацеленного на изучение социального порядка, практически сформировавшегося в процессе строительства Мурманской железной дороги. В ней прежде всего рассматриваются основные теоретические положения, необходимые для последующего анализа функциональности элементов социальной системы в конкретных исторических обстоятельствах.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛ
Мурманская железная дорога – это преимущественно государственный заказ, реализованный в обстоятельствах Первой мировой войны. Условия сооружения стратегического объекта требовали от имперских властей специфических мер, которые бы обеспечивали контроль и наблюдение за деятельностью многочисленного трудового коллектива. Более того, среди участников стройки находились группы, требовавшие постоянного наблюдения. Речь идет не только о военнопленных, которые, естественно, находились под охраной. Вызывали беспокойство и группы строителей, которых подозревали в шпионаже, те, кто был замечен в организации банд и потенциально мог нанести урон на любом из участков строившегося пути:
«…среди рабочего элемента, привезенного из Сибири, имеются ссыльно-поселенные и так называемая сибирская “шпана”, способная на все»4.
В целях сохранения безопасности объекта и осуществления контроля за возможными нарушителями порядка были дополнительно набраны сотрудники охранной службы [8: 56]. Обязанности непосредственного взаимодействия с рабочими легли на плечи стражников, охранников из нижних чинов. Особенность организации этих групп заключалась в их этническом разнообразии. Охрана состояла из завербованных лиц – русских, а также представителей среднеазиатских, кавказских этнических групп [8: 63], [23]. Всего на Мурманской железной дороге работало не менее 3220 стражников5.
Объект нашего исследования – стражники Мурманской железной дороги как социальные акторы6. Выбор объекта обусловлен тем, что они заняли промежуточное положение в сформировавшейся социальной структуре железнодорожной стройки. С одной стороны, нижние чины являлись официальными агентами исполнительной власти на местах, то есть формально были включены в структуры, отвечавшие за установление или наведение порядка. С другой стороны, стражники – представители нижних чинов, непосредственно взаимодействовавших с группой рабочих, они не имели самостоятельности и должны были действовать по инструкции. Наличие военнопленных и других безоружных людей предоставляло возможность группам охраны использовать властные полномочия в собственных интересах. В прошении о принятии мер по обеспечению спокойной жизни строителей, адресованном начальнику 4-го участка, описан один из многочисленных конфликтов между участниками строительства:
«…в типовой барак на ст. Кереть, где помещаются плотники, в 9 часов вечера вошли все находящиеся на ст. Кереть в количестве 9 человек стражники лезгины с обнаженными кинжалами» и отобрали заработанное «у плотников, спокойно сидевших и деливших между собой артельные деньги, угрожая им оружием»7.
Таким образом, выбор объекта исследования определен статусной позицией группы. Социальные взаимодействия стражника, который включен в разнообразные типы отношений руководства – подчинения, отражают соотношение установленной (то есть предзаданной) и фактически сложившейся системы норм и правил в данном сообществе. Непосредственное взаимодействие как с рабочими, в том числе военно- пленными, так и со специалистами, возможность самостоятельного передвижения по вверенному участку, необходимость контроля и наблюдения за участниками строительства, общение и сотрудничество с представителями административной власти, а также сплоченность в этническом отношении – все это позволяло представителям охраны устанавливать приемлемые типы поведения для подчинявшихся им групп, использовать формальные и неформальные способы поддержания нормативного порядка, выполнять функции исполнительной власти.
Источниковую основу исследования составили документы региональных архивов – Государственного архива Мурманской области и Национального архива Республики Карелия, касающиеся строительства Мурманской железной дороги, прежде всего те, в которых отражены действия стражников и/или их взаимодействия с другими акторами. Анализируемые документы имеют специфическую направленность. Были отобраны описания нарушений рабочего процесса или социальных конфликтов, то есть любых видов девиантного поведения участников строительства. В первую очередь они содержатся в срочных документах – телеграммах, рапортах, а также в жалобах и заявлениях.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА, СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
Наше исследование опирается на концепцию социального действия и общую теорию социальных систем Т. Парсонса [12], [13], [24], [25]. Ключевыми понятиями этих работ являются «социальная система», «социальная структура», «социальный порядок», «социальное действие» и «социальный контроль». Все обсуждаемые термины тесно связаны. Социальная система, в самом простом варианте, предложенном Т. Парсонсом, это
«система процессов взаимодействия акторов, она представляет собою структуру отношений между акторами, включенными в процессы взаимодействия, которая по существу и есть структура социальной системы» [13: 23].
Основной тезис заключается в том, что любая общественная организация в различных обстоятельствах стремится к равновесию. Поддержать ее балансирование возможно при условии создания четкой структуры, а в случае возникновения девиантности в социальных взаимодействиях механизмы социального контроля позволяют сохранить равновесие системы [13: 229–230]. Таким образом, социальная система должна быть структурирована, ее элементы – упорядочены. В свою очередь, каждый субъект системы выполняет определенные функции. Их упорядоченность и «правильное» исполнение позволяют любому элементу (например, индивиду или личности) внести вклад в поддержание иерархичности и сохранение общей конструкции. Система же, со своей стороны, призвана максимально бесконфликтно интегрировать структурированные компоненты в единое целое, например, объединить индивидов в группы по какому-либо признаку и тем самым обеспечить стабильность социального устройства.
Одна из функций социальной системы – сохранение структуры, которое обеспечивается использованием определенных механизмов. Важнейшим из них, по мнению Парсонса, является интеграция ценностных ориентаций [12: 347], [13: 418]. Обмен персональными мотивациями и представлениями тесно связан с системой социальных действий индивидов, которая предполагает осмысленность действия со стороны актора и социальную направленность действия, то есть его ориентацию на другого [12], [22], [23]. Баланс системы социальных действий (или взаимодействий) означает исполнение социальных ролей, которые мотивируют актора на одобряемое или «правильное» поведение. То есть социальная система при планировании взаимодействий намечает ожидаемые результаты от поведения той или иной личности, группы или в целом сообщества. Это происходит при помощи создания нормативно-правовой документации, системы поощрений и наказаний, а также определения функциональных возможностей и ограничений каждого элемента системы. Т. Парсонс задается вопросом: как можно поддержать равновесие социальной системы, когда в ситуациях взаимодействия акторов проявляется девиантное поведение? Его интересовало, каким образом конфликты, нарушающие нормы и правила, могут быть разрешены при помощи девиантного поведения. Восстановление «равновесия при помощи противодействующих сил» – это и есть механизм социального контроля [13: 230].
Понятие «социальный порядок» используется, как правило, для обозначения процессов изменения или стабильности социальной системы, заданного комплекса правил и образцов, которые регулируют социальные взаимодействия и влияют на функционирование социальной системы в целом. Социальный порядок, согласно концепции Парсонса, может сохраняться в том случае, когда он поддерживается взаимным принятием социальных норм и ценностей всеми акторами [21]. Обеспечивают его контролирующие механизмы, которые актор применяет, противодействуя мотивациям нарушителей установленного режима [13: 230]. Субъект поддерживает «нормативную модель» и берет на себя ответственность за ее сохранение [13: 294–295]. К дестабилизации социальной системы могут привести конфликты, споры, разногласия между группами – участниками взаимодействий. Регулярное восстановление и поддержание заданного социального порядка в таких ситуациях становится необходимым. Таким образом, социальный порядок – это согласованность и дисциплинированность социальных взаимодействий, поддержание структуры социальной системы и упорядоченность социального действия.
Мурманская железная дорога – это социальная система, своего рода микромодель последовательного формирования общества, опыт его создания. Известно, что общность строителей магистрали создавалась искусственно, поскольку собственных трудовых ресурсов для обслуживания нужд стройки Олонецкая губерния и Александровский уезд Архангельской губернии не имели [9: 30]. Яркими характеристиками этого временного сообщества стали быстрота его формирования, временность существования, а также специфическое размещение строителей вдоль земель, отчужденных дороге. Несмотря на множество проблем, сопровождавших стройку, эта социальная система была определенным образом организована. Здесь сложилась упорядоченная структура, была разработана нормативно-правовая база [3: 103], [7: 110]. Иначе говоря, система, несмотря на многочисленные противоречия в запланированных действиях и их результатах, достаточно успешно функционировала. Главным показателем ее результативности было скорое завершение строительства [16: 160].
СОЦИЕТАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК: СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Планировало ли Управление подбор и вербовку рабочих-строителей с учетом их этнической принадлежности? Это вопрос, который, по всей видимости, еще требует осмысления. Социальная структура, которая представлена и частично аргументирована в официальном отчете о результатах строительства8, отражена в архивных документах и подтверждена историческими исследованиями, как будто выстроена по этническому принципу [6: 105], [14], [18: 36]. Попытка Управления организовать совместное проживание представителей различных этниче- ских групп не имела должного результата9. Конечно, информация о таких социальных характеристиках рабочих, как пол, возраст, гражданство (подданство), сословная принадлежность, профессиональные навыки потенциальных работников, также присутствует в документах. Однако практически в любом упоминании о социальных действиях группы (или коллективного актора [13: 124]), вне зависимости от последствий, действующие субъекты обозначаются как этнические. Об этом, в частности, сохранились свидетельства документов:
«Заменившие черкесов стражники русские солдаты относятся к пленным хорошо»10; «…движение заболеваний сыпным тифом представляется в следующем виде. Состояло на 1 декабря финнов рабочих трое, финнов населения один и стражник черкес один»11.
Этническая специфика формирующейся социальной системы определила и особенности взаимодействия внутри общности. Функциональное и ролевое наполнение системы происходило последовательно, с возникновением новых «строительных» задач [7: 109], а также с учетом представлений руководства о специфике деятельности той или иной этнической группы. Таким образом, администрация имела возможность развести по разным участкам не ладившие между собой этнические группы и сформировать условно бесконфликтную среду. В отдельных случаях Управление шло им навстречу: китайцев обеспечивали «чашками и палочками для еды, особой обувью (кожаные башмаки и суконные туфли), теплой одеждой и проч.», а финнов – маслом и кофе12.
Возможно, более длительное выполнение рабочими своих обязанностей позволило бы им успешно адаптироваться к установленному руководством распорядку и внести более заметный вклад в процесс функционирования социальной системы. Однако требование минимизации сроков строительства, чрезвычайные обстоятельства, в которых возводился объект, – стали лишь одними из множества проблем, с которыми в действительности столкнулось Управление. Социальная реальность, насыщенная бытовыми заботами повседневной жизни, этническими, религиозными и другими особенностями, ежедневно создавала барьеры для правомерного исполнения заданного нормативного порядка [7: 110–111]. То есть фактически не было организовано запланированное общество, пусть и этнически ориентированное, состоящее при этом из специализированных профессиональных коллективов, для которых были разработаны инструкции и правила. Правовые нормы, призванные урегулировать отношения между рабочими и административными структурами, должны были минимизировать конфликтность и девиантность внутри социальной системы. Результатом четкого исполнения функций, соответствия «ожидаемых» социальных действий нормативно-правовой документации, уменьшения конфликтности могла бы стать своего рода преданность этнических групп социальной системе.
В отчетных документах строительства содержится информация о систематических нарушениях заданного руководством порядка, допускаемых коллективными агентами – представителями этнических групп. Затрудненность межэтнических коммуникаций (в силу языковых и культурных различий) препятствовала социальной интеграции всех участников строительства, что предполагало применение силы со стороны администрации. Регулярное обращение стражников к наказаниям могло стать фактором временного поддержания порядка, восстановления функциональности системы.
Как известно, простейшим решением проблемы стало укрепление службы охраны путем привлечения большего количества стражников. Поскольку избежать конфликтов между этническими группами удавалось все реже, стабилизации ситуации могло способствовать усиление социального контроля, позволявшее сохранить систему в состоянии «подвижного равновесия». Что же сделало руководство? Оно включило новые этнические группы, дополнительно объединенные квазиэтническим компонентом, в рассогласованную систему взаимодействий коллективов, конфликты внутри которых возникали на основе этнических противоречий, установок, стереотипов, образцов поведения. Стражники (лезгины, ингуши, чеченцы, черкесы и другие этнические группы), работавшие в службе охраны, нередко рассматривались их непосредственными начальниками как типовые представители общности «кавказцев». Поступив на службу, стражники оказывались включенными в систему исполнительной власти. В структуре сообщества они являлись, с одной стороны, исполнителями роли охранников социального порядка и, с другой стороны, пребывали в роли подчиненных, за которыми также требовались контроль и наблюдение. Такое промежуточное положение стражников позволяло им поддерживать социальный порядок силового характера:
«Отношение ближайшего начальства, – стражников, черкесов, не понимающих никакого европейского языка и не признающих иного способа воздействия кроме нагайки, было в большинстве случаев жестокое и несправедливое»13,
– говорится в «Докладе о санитарном состоянии военнопленных».
В то же время стражники как низшие чины, оказавшись на самой нижней ступени исполнительной системы власти, сами становились объектом насилия со стороны наемных работников и военнопленных, а также со стороны органов управления.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Сохранение сформированной социальной системы Мурманской железной дороги в состоянии равновесия оказалось проблематичным, поскольку административная власть объединила в один коллектив рабочих этнические группы, не предоставив им возможность адаптироваться к окружающей природной и социальной среде. Сопутствующие процессу строительства обстоятельства (природно-климатические и географические условия, отсутствие транспортных путей и т. д.) повышали конфликтность этнических групп.
Управленческая система выбрала способом поддержания социального порядка на Мурман- ской железной дороге усиление охранной структуры. Этнический фактор оказывал серьезнейшее влияние на решения Управления. Так, агент, занимавшийся отправкой новых партий стражников, просил срочно телеграфировать, «понадобятся ли туркмены для упомянутой службы Мур-манстройке и утвердительном случае количество их и место направления»14. Предполагалось «доставить до пяти тысяч рабочих кавказцев из горных аулов»15.
Охрана оказалась способна поддержать социальный порядок только силовым способом, используя принудительные методы [8: 65]. При этом субъекты исполнительной власти оказались в положении индивидов, демонстрирующих девиантное поведение. Включение представителей нижних чинов в систему «руководство – подчинение – руководство» требовало от них исключить поступки, нарушавшие общественные нормы, и тем самым демонстрировать лояльность нормативному порядку. Однако стражники, продолжая традиции, заложенные Управлением Мурманской железной дороги, разработали собственную систему социальных действий, которая была основана на приоритетном привлечении этнического компонента.
Social structure and personality. Glencoe, Illinois: Free Press, 1963. 376 p.
The role of ideas in social action // American Sociological Review. 1938. Vol. 3. P. 13–20.
The social system. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1951. 575 p.
The structure of social action. New York: McGraw Hill, 1937. 775 p.
Список литературы Социальный порядок на Мурманстройке. Часть 1. Этнические группы - акторы социальной системы
- Агамирзоев К. М. Путь на Север: Исторический очерк. Петрозаводск: Скандинавия, 2008. 156 с.
- Балагуров Я. А. Рабочие Мурманской железной дороги в 1915 - начале 1917 года (К истории формирования постоянных рабочих кадров) // 50 лет Советской Карелии. Петрозаводск, 1970. С. 198-213.
- Голубев А. А. Мурманская железная дорога. История строительства (1894-1917 гг.). СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2011. 205 с.
- Дубровская Е. Ю. «Прежде» и «теперь»: перемены 1917 года глазами строителей Мурманской железной дороги // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. 2019. Т. 10, № 7-17. С. 22-39.
- Дубровская Е. Ю. Социально-экономическое пространство сооружения Мурманской железной дороги: строители магистрали и население прилегающих территорий в годы Первой мировой войны // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. 2020. Т. 11, № 1-18. С. 24-43.
- Дубровская Е. Ю., Кораблев Н. А. Карелия в годы Первой мировой войны: 1914-1918. СПб.: Нестор- История, 2017. 432 с.
- Змеева О. В. Мурманская железная дорога: установление и трансформация социального порядка // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 6 (183). С. 107-113. DOI: 10.15393/ uchz.art.2019.379
- Змеева О. В. Стражники Мурманской железной дороги: регулирование отношений и формирование этносоциального порядка (1915-1916 гг.) // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. 2019. Т. 10, № 2-16. С. 53-67.
- Кораблев Н. А., Дубровская Е. Ю. Влияние Первой мировой войны на социально-экономическую жизнь населения Карелии // Труды Карельского научного центра РАН. 2015. № 8. С. 28-38.
- Нахтигаль Р. Мурманская железная дорога (1915-1919 гг.): военная необходимость и экономические соображения: СПб.: Нестор-История, 2011. 320 с.
- Нахтигаль Р. Мурманская железная дорога в планах стран-участниц Первой мировой войны // Первая мировая война и Европейский Север России: Материалы междунар. науч. конф. Архангельск: ИД САФУ, 2014. С. 240-247.
- Парсонс Т. О структуре социального действия: Пер. с англ. М.: Академический Проект, 2018. 435 с.
- Парсонс Т. Социальная система: Пер. с англ. М.: Академический проект, 2018. 530 с.
- Трошина Т. И. «Желтый труд» на Европейском севере. Привлечение китайских рабочих на строительство Мурманской железной дороги и порта // Мурманск в истории Российской государственности: Сб. докладов междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург: Сократ, 2016. С. 156-161.
- Трошина Т. И. Горцы на Европейском Севере России в годы «длинной войны» 1914-1920 гг. // Казаки и горцы в годы Первой мировой войны: Материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием (Ростов-на-Дону, 18-19 сентября 2014 г.). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. С. 160-164.
- Федоров П. В. Северный вектор в российской истории: центр и Кольское Заполярье в XVI-XX вв. Мурманск: Изд-во МГПУ, 2009. 388 с.
- Ходяков М. В., Чжао Ч. Трудовая миграция китайцев в Россию в годы Первой мировой войны // Новейшая история России. 2017. № 1. С. 7-30.
- Ярмолич Ф. К. Китайская диаспора на Кольском Севере в 20-е годы ХХ века: демографические характеристики // Живущие на Севере: вызов экстремальной среде. Мурманск, 2005. С. 36-39.
- Nachtigal R. Kriegsgefangenschaft an der Ostfront 1914 bis 1918. Literaturbe-richt zu einem neuen Forschungsfeld. Frankfurt/Main, 2005. P. 109-114.
- Nachtigal R. Privilegiensystem und Zwangs-rekrutierung: Russische Nationalitätenpolitik gegenüber Kriegsgefangenen aus Öster-reich-Ungarn // Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkrieges (Jochen Oltmer, Ed.). Paderborn, 2005. P. 167-193.
- Parsons T. Order as a social problem // The concept of order. (P. G. Kuntz, Ed.). Seattle: University of Washington Press, 1968. P. 373-384.
- Parsons T. Social structure and personality. Glencoe, Illinois: Free Press, 1963. 376 p.
- Parsons Т. The role of ideas in social action // American Sociological Review. 1938. Vol. 3. P. 13-20.
- Parsons Т. The social system. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1951. 575 p.
- Parsons Т. The structure of social action. New York: McGraw Hill, 1937. 775 p.